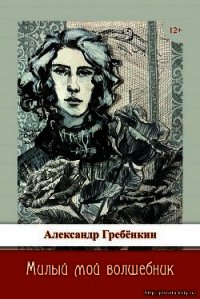Я отвечаю за все - Герман Юрий Павлович (читать книги без txt) 📗
Неприязненная улыбка пробежала по его губам, ему когда-то сильно влетело от Копыткина за бездеятельность, и с тех пор Свирельников возненавидел генерала. Впрочем, некоторые утверждали, что все случилось наоборот: были слухи, что Копыткин взыскал со Свирельникова как раз за слишком крутую деятельность.
— Пришлось, хоть и старшему в звании, а разъяснить, что такие типы, как вышеназванная осужденная Устименко, на блюдечке с каемочкой показания не дают. Даже заспорить не соизволил. Он, понимаешь, вроде мне приказывает…
Когда Свирельников сердился, делалось понятно, что человек он совсем темный, слово «понимаешь» становилось главным и чуть не единственным в его лексиконе, а остальное были просто длинные, нелепые матюги.
— Интеллигент, понимаешь! — выругался он. — Хлюпик!
Ожогин молчал. Хоть бы сесть предложил — сколько можно стоять перед начальством.
— Срока получает по особому совещанию, шпионка, понимаешь, луна по таким плачет, а он — давай полное признание. Я ему — вы сами, товарищ Копыткин, пробовали с такими беседовать? А он — мне не беседы нужны, а документ, протокол допроса.
Ожогин молчал. Ему совершенно ясно, что сейчас Свирельников напустится на него.
— Как она?
— Кантуется в санчасти, — неопределенно ответил Ожогин.
— А точнее?
— Выходит, приболела.
— Ты мне не выкручивайся, — сказал Свирельников. — Я не из Международного Красного Полумесяца и не из баптистов. Отвечай как положено!
Ожогин ответил как положено, с возможными для такой беседы подробностями. Лицо его выражало недоумение и раскаяние. Будто он и впрямь не знал, как это с ним сделалось. Но, с другой стороны…
И он развел руками:
— Работа такая, в белых перчатках толку не будет.
Это он повторил любимые слова Свирельникова, чего, наверное, делать не следовало, потому что таким путем он как бы и ответственность за свое рукоприкладство взваливал на полковника.
— Ты с больной головы на здоровую не вали, — сказал Свирельников сурово. — Тоже умник, понимаешь! Про белые перчаточки я как вас инструктировал? Про излишнюю вежливость вашу речь была, чтобы интеллигентщину не разводить, либерализм, всякие там — «извините, разрешите». С врагом как с врагом, вот о чем речь шла. А если что и вышло, то разве поаккуратнее нельзя? Вон лежит, понимаешь, а на меня Копыткин жмет. Какое у тебя задание? Найти гада, который клеветническое письмо в ЦК решился доставить. Кому? Даже имя невозможно назвать, священное для нашего гражданина имя. Теперь представь в своем мозгу: попадает письмо лично в руки, читает он клевету, злобный вымысел, пасквиль, и расстраивается, отвлекается от государственных дел, затрачивает свое драгоценное время на выяснение подробностей про эту Устименко. Ну, а мы на что? Выходит, мы даже оградить не можем? Избавить? Где же наша бдительность, которой лично он непрестанно нас учит? Где, а?
Ожогин промолчал. Он не смог бы ответить на этот вопрос.
— Найти негодяя в своих рядах, — глядя мимо майора прямо перед собой, заключил Свирельников. — Вытащить за ушко да на солнышко врага, который письма осужденных и лишенных права переписки передает. Обнаружить такового и материалы на него переслать для соответствующего наказания. Вот такую задачу перед нами поставил товарищ Копыткин, и мы эту задачу — кровь из носу — выполним. Понятно?
— Понятно, — покорным голосом сказал Ожогин.
— Так что ж дурочку клеишь?
— Виноват, товарищ полковник, понервничал.
— Вот и будешь отвечать, раз виноват. Не место тебе здесь, выгоним. Если такой нервный — шел бы комиссоваться. Здесь железные нервы надо иметь. Не детский сад.
Он принялся чинить карандаши, которыми писал резолюции, вернее не резолюции, а резолюцию, всегда одну и ту же: «Согласен». Если же Свирельников был не согласен, то ничего не писал, а ругался. Ниже слова «согласен» он расписывался. Число ставил сам. Карандаши полковник чинил удивительно красиво и когда занимался этим делом, то словно бы весь преображался. Нож для этой операции у него был особый, и точил он его в своем кабинете часами. Это была единственная слабость Свирельникова. Других за ним не значилось: он не пил, не курил, не знал языков, даже в войну не был за границей, не держал друзей. Он только работал, и это все про него знали.
И знали про него еще одно: он был родственник. Про то, чей именно, ходили разные слухи, одно только было известно совершенно точно: Свирельников находится с кем-то весьма и весьма влиятельным не то в родстве, не то в свойстве. Супруга его Елизавета Ираклиевна кому-то тетка, либо племянница, либо даже сводная сестра. Сам Свирельников на эти темы говорить воздерживался, но начальник АХО Пенкин, однажды сопровождавший супругу полковника Свирельникова в столицу, потом рассказывал в своем кругу, какая машина их там встретила и куда повезла. Разумеется, Пенкин ничего подробно не описывал, но «давал понять». И это было куда существеннее любых подробностей.
Сухую, черную и жилистую супругу свою полковник побаивался и уважал до того, что разговаривал с ней даже по телефону с придыханием в голосе, и глаза его, случалось, увлажнялись, когда речь заходила о семье вообще и о семействе Свирельниковых в частности. Не будучи одарен талантом красноречия, полковник, однако же, владел целым арсеналом цитат и частенько пускал их в дело, если обсуждаемый вопрос касался чьих-либо семейных взаимоотношений. И если что-либо у кого-нибудь тут нарушалось, товарищ Свирельников делался совершенно беспощадным, багровел, топал ногами и не входил ни в какие обсуждения.
— Семья есть семья! — орал он. — И никому не дозволяется, понимаешь, разводить разные безобразия там, где…
Если поверить тому, что у каждого человека существует своя правда, то и у Свирельникова, несомненно, была, выражаясь его обиходным языком, «таковая». Его «правдой» был страх. Сделавшись много лет тому назад «родственником» и вследствие этого родства — начальником, Свирельников ужасно как испугался, что вдруг да не угадает, вдруг не угодит, вдруг сделает что-либо наперекосяк. И падать тогда придется с большой высоты, с такой, что и костей не соберешь. Поэтому он непрестанно и усерднейшим образом «ориентировался», но, будучи от природы человеком глупым, да еще и попыхачом, свои «ориентировки» частенько менял, давая понять подчиненным, что есть-де такое мнение. И сейчас он тоже сказал Ожогину, что есть такое мнение, надо-де напрочь забыть перегибы тридцать седьмого, иначе будем наказывать, и строго. Ясно?
— Ясно, — сказал Ожогин.
— Ты — продумай, — велел полковник. — Я с тобой не шутки шучу. И нет у меня желания за твое хамство наверху отдуваться. Спросят-то с меня? Как считаешь?
Майор согласился одним лишь выражением лица, словами — не посмел.
— И откуда в твоем поколении нервы берутся? — опять сказал Свирельников. — Когда вы их нажили? Молодая, счастливая поросль… — добавил он, хотя Ожогин был ненамного моложе его.
Посасывая нижнюю губу, он чинил третий карандаш — двойной, синий и красный. Ожогин совершенно изнемог. Сколько можно вот так стоять?
— Переживаешь, — произнес полковник погодя. — Это хорошо. Полезно. Пойди к себе, посиди, проработай нашу беседу. И запомни: белые перчатки — одно, а перегибы — другое. И полковник Свирельников не намерен за тебя нести ответственность.
Ожогин ушел.
А Свирельников опять испугался, как боялся всего, всегда, каждую минуту. С одной стороны, было хорошо, что Елизавета Ираклиевна «являлась родственницей», а через это обстоятельство и он был тоже в некотором роде… Но с другой стороны, тот, кому супруги Свирельниковы приходились родственниками, тоже, что называется, под богом ходил. А вдруг он не угадает? Тогда как?
Наточив все карандаши, он внезапно придумал, что делать, и толстым мизинцем набрал номер.
— Ожогин?
— Так точно, товарищ полковник.
— Я тут порассуждал в отношении Устименко. Продумал вопрос. Провентилировал. Решение будет такое — дам на нее Гнетова. Парень, видать, крепкий. Еще не беседовал с ним, сейчас займусь. У тебя и без нее делов хватит. Гнетов подъедет к ней, что-де ты перегнул. А у тебя такое дело не получится, ты не потянешь. Сообразил?