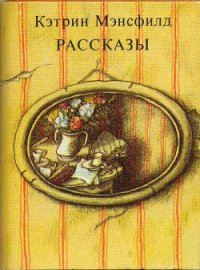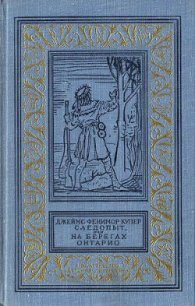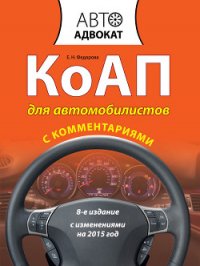Я исповедуюсь - Кабре Жауме (полные книги TXT) 📗
– Как вы решились сделать то, что сделали?
Доктор Мюсс открыл глаза:
– Вы не знаете, что я сделал.
– Я изучил документы. Вы организовали группу врачей, которые занимались тем, что нарушали клятву Гиппократа.
– Вы, несмотря на профессию, хорошо образованны.
– Как и вы. Не могу не воспользоваться возможностью, чтобы сказать вам, что вы мне отвратительны.
– Я заслуживаю презрения убийц. – Он закрыл глаза и сказал, будто затверженный текст: – Я согрешил против человека и Бога. Во имя идеи.
– Вы в нее верили?
– Да. Confiteor.
– А как же чувство жалости и сострадания?
– Вы убивали детей? – Доктор Мюсс посмотрел ему в глаза.
– Напоминаю, что здесь вопросы задаю я.
– Хорошо. Значит, вы знаете, что при этом испытываешь.
– Видеть, как плачет ребенок, которому заживо сдирают кожу, чтобы посмотреть, каково действие инфекций… и не испытывать сострадания…
– Я не был человеком, отец мой, – признался доктор Мюсс.
– Как же, не будучи человеком, вы смогли раскаяться?
– Не знаю, отец мой. Mea maxima culpa [337].
– Никто из ваших коллег не раскаялся, доктор Будден.
– Они знали, что их грех слишком велик, чтобы просить прощения, отец мой.
– Кое-кто покончил с собой, а некоторые сбежали и попрятались, как крысы.
– Кто я, чтобы судить их? Я такой же, как они, отец мой.
– Но вы единственный, кто хочет исправить зло.
– Будем объективны: с чего мне быть единственным?
– Я изучил много документов. Например, касающихся Ариберта Фойгта.
– Что?
Несмотря на все самообладание, доктора Мюсса передернуло судорогой, едва он услышал это имя.
– Мы его отловили.
– Он это заслужил. Да простит меня Господь, ведь и я это заслуживаю, отец мой.
– Мы его наказали.
– Не могу ничего сказать. Это слишком тяжело. И вина слишком глубока.
– Мы отловили его уже много лет назад. Вы этому не рады?
– Non sum dignus.
– Он плакал и просил прощения. И наложил в штаны от страха.
– Плакать по Фойгту я не стану. Но подробности, которые вы рассказываете, мне неприятны.
Какое-то время посетитель пристально смотрел на врача.
– Я еврей, – сказал он наконец. – И работаю по заказу. Однако и по своему желанию тоже. Вы меня понимаете?
– Прекрасно понимаю, отец мой.
– Знаете, что я думаю в глубине души?
Конрад Будден со страхом открыл глаза, словно боясь снова оказаться перед картезианским старцем, который не мигая смотрит на трещину в стене заиндевевшей исповедальни. Напротив него сидел некто Элм, судя по лицу – человек бывалый, и смотрел не на трещину, а в упор на него. Мюсс выдержал взгляд:
– Да, знаю, отец мой: я не имею права на рай.
Посетитель поглядел на него молча, скрывая удивление. Конрад Будден продолжил:
– И вы правы, грех мой столь ужасен, что настоящий ад – то, что я выбрал: принять на себя вину и продолжать жить.
– Не думайте, что я вас понимаю.
– А я на это и не претендую. И не оправдываюсь ни идеей, которая нас увлекала, ни бездушностью, благодаря которой мы легче выдерживали тот ад, который сами же создавали. Я не ищу ничьего прощения. Даже Божьего. Я просил только позволить мне исправить этот ад, насколько возможно.
Он закрыл лицо руками и сказал: doleo, mea culpa [338]. Каждый день я заново, но столь же остро переживаю эту скорбь.
Повисла тишина. На улице мягкий покой спустился на больницу. Пришельцу показалось, что он слышит где-то вдалеке приглушенное бормотание телевизора. Мюсс спросил тихо, пряча смятение:
– Это останется в секрете или после моей смерти всем раструбят, кто я?
– Мой клиент желает, чтобы все осталось в секрете. Хозяин – барин.
Молчание. Да, это телевизор. Странно было слышать здесь этот звук. Посетитель откинулся на спинку стула.
– Вы и сейчас не хотите узнать, кто меня послал?
– Мне не нужно этого знать. Вас послали все.
И он опустил ладони на грязную тряпицу – аккуратно, даже торжественно.
– Что это за ткань? – спросил мужчина. – Салфетка?
– У меня свои секреты.
Доктор Мюсс подержал руки на тряпице и сказал: если угодно, приступайте. Я готов.
– Будьте любезны, откройте рот…
Конрад Будден закрыл глаза со смирением и произнес: как скажете, отец мой. В окно донеслось игривое кудахтанье курицы, готовой порезвиться. А издалека – смех и аплодисменты у телевизора. И Ойген Мюсс, брат Арнольд Мюсс, доктор Конрад Будден, открыл рот, чтобы принять последнее причастие. Он услышал, как резко открывается молния на сумке. Услышал металлические звуки, которые перенесли его в ад, и принял это как высшее покаяние. Рот он не закрыл. И не услышал выстрела, потому что пуля долетела слишком быстро.
Посетитель заткнул пистолет за пояс и достал из сумки автомат Калашникова. Прежде чем выйти из комнаты, он аккуратно сложил священную для этого человека тряпицу, словно она была священна и для него, и убрал в карман. Жертва по-прежнему прямо сидела в кресле, с изуродованным ртом, но без единой струйки крови. Даже на халате не было ни пятнышка. Слишком стар, чтобы проливать кровь, подумал он, снимая предохранитель с затвора и готовясь придать сцене иной вид. Он прикинул, откуда доносится звук телевизора. Сообразил, что как раз оттуда, куда ему придется направиться. Он прекрасно понимал – смерть врача не должна привлечь внимания, и решил, что для этого нужно, чтобы как можно больше обсуждали прочие события. Таковы уж особенности его работы.
Все, что я вам рассказываю, дорогие друзья и коллеги, случилось до Истории европейской мысли. Кто хочет получить конкретные сведения о нашем ученом, может воспользоваться прежде всего двумя источниками: Большой каталонской энциклопедией и Британской энциклопедией. У меня под рукой была последняя, и вот что говорится в пятнадцатом издании:
Адриа Ардевол-и?Боск (Барселона, 1946). Преподает теорию эстетических течений и историю идей, в 1976 году защитил докторскую диссертацию в Тюбингене, автор «Французской революции» (1978). В данной работе обосновывает невозможность применения насилия ради идеала и подвергает сомнению историческую легитимность таких фигур, как Марат, Робеспьер и даже Наполеон, которых с филигранным мастерством сопоставляет с палачами XX века, такими как Сталин, Гитлер, Франко и Пиночет. Однако, по сути, история в то время мало волновала молодого преподавателя Ардевола: в пору написания книги он тяжело переживал многолетнее отсутствие своей возлюбленной Сары ^Волтес-Эпштейн (Париж, 1950 – Барселона, 1996), которая пропала без всякого объяснения, и ему казалось, что на него ополчились весь мир и сама жизнь. Он был не способен рассказать об этом своему хорошему другу Бернату ^Пленсе-и?Пунсоде (Барселона, 1945), хотя тот не раз плакался ему о своих невзгодах. Книга была воспринята неприязненно в кругах французских интеллектуалов, которые отвернулись от нее и в конце концов о ней забыли. Поэтому «Маркс?» (1980) прошел незамеченным, и даже немногочисленные остававшиеся в живых каталонские сталинисты не прознали о появлении этого труда, чтобы его изничтожить. После одного из визитов к ^Лоле Маленькой (Барселонета, 1910–1982) он напал на след своей дорогой Сары (vid. supra), и его жизнь вновь обрела покой, если не считать отдельных эпизодов с Лаурой ^Байлиной (Барселона, 1959?), с которой он не смог решительно порвать отношения и вел себя по отношению к ней несправедливо, mea culpa, confiteor. Уже много лет, как уверяют, он работает над «Историей зла», но поскольку он не вполне ясно представляет себе эту работу, то завершит ее не скоро, если вообще окажется способен это сделать. Обретя внутренний покой, он смог посвятить свои силы написанию труда, который считает наиболее удачным, – «Эстетической воле» (1987), горячо поддержанной Исайей ^Берлином (ср. Personal Impressions [339], Hogarth Press, 1987 [1998, Pimlico]), а после нескольких лет лихорадочной работы завершил впечатляющую «Историю европейской мысли» (1994) – сочинение, получившее наибольшее международное признание, то, которое и привело нас всех сегодня в актовый зал в Брехтбау, на факультет филологии и философии этого университета. Произносить вступительное слово перед этим торжественным событием – высокая честь для меня. Большого труда стоило мне не предаться личным, субъективным воспоминаниям, поскольку мое знакомство с профессором Ардеволом началось много лет назад в коридорах, аудиториях и кабинетах этого университета, когда я был начинающим преподавателем (да, и я когда-то был молодым, дорогие студенты), а студент Ардевол – юношей, скорее озабоченным сердечными делами, отчего он первые месяцы путался с кем попало, пока не вступил в очень непростые отношения с Корнелией ^Брендель (Оффенбах, 1948), которые стали для него настоящей пыткой, так как девушка – она не была столь красива, как он себе представлял, хотя, надо признать, в постели должна была оказаться весьма неплоха – стремилась к новым экспериментам, а такому пылкому южанину, как Ардевол, было трудно не клюнуть на это. Правда, холодному узколобому немцу – тоже. Не говорите ему об этом, ему это может очень не понравиться, но я вынужден признать, что ваш покорный слуга позднее сам стал экспериментом мадемуазель Брендель. Поясню, что я имею в виду. Завершив эксперименты с баскетболистом гигантского роста, с финном, игравшим в хоккей на льду, и с художником со вшами в шевелюре, Брендель обратилась к другому опытному материалу. Она посмотрела в мою сторону и задалась вопросом: а что, если завести роман с преподавателем? По правде говоря, я оказался всего лишь очередным охотничьим трофеем, и моя голова в академической шапочке красуется у нее на каминной полке рядом с головой финна в ярко-красном хоккейном шлеме. Ну будет, сегодня мы ведь говорим не обо мне, а о профессоре Ардеволе. Я сказал, что отношения с Брендель были для него пыткой, от которой он избавился, решив уйти с головой в учебу. Именно поэтому упомянутая Корнелия Брендель достойна памятника на берегу Неккара. Ардевол окончил Тюбингенский университет и защитил докторскую диссертацию о Вико, которую – напомню, хотя вы это наверняка знаете, – очень хвалил профессор Эухенио Косериу (vid. Архив Эухенио Косериу, Университет Эберхарда и Карла). Вот он, бодрый старик, сохранивший ясный ум, несмотря на возраст, сидит в первом ряду, нервно двигая ногами, однако с удовлетворением на лице. Совершенно очевидно, что диссертация профессора Ардевола – один из наиболее читаемых текстов среди студентов, изучающих историю идей в нашем университете. На этом я заканчиваю, хотя говорить о заслугах профессора Ардевола могу бесконечно. Передаю слово напыщенному и тщеславному профессору Шотту. Господин Каменек с улыбкой передал микрофон профессору Шотту, подмигнул Адриа и уселся поудобнее в кресле. В зале собралось человек сто. Забавная смесь преподавателей и любопытствующих студентов. И Сара подумала: какой он красивый в новом пиджаке.
337
Моя величайшая вина (лат.).
338
Скорблю, моя вина (лат.).
339
Личные впечатления (англ.).