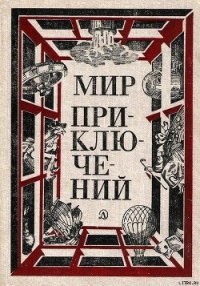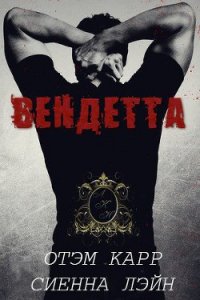Некто Финкельмайер - Розинер Феликс Яковлевич (книги без сокращений .txt) 📗
Прекрасно искусство, которое не сберегает себя!
Милый юноша Т., который сделал уже свыше тысячи набросков двух обнаженных фигур, — почему-то он называет все это «Балет» — мудрее многих и многих из тех маститых живописцев, с которыми я был знаком в разное время. Он, этот юноша, приходит к чистому листу, а насладившись линией и цветом, уходит и дважды не идет в одну и ту же воду. Что ему до своих листов? Его волнует только тот из них, который хочет вот-вот появиться.
Особо следует остановиться на искусствах словесных. Тут все подчинено фиксации. Если краска, движение, звук —те элементы, из которых строятся, положим, живопись, танец, музыка, — сами по себе еще ничего не фиксируют, то элемент поэзии — слово — есть не что иное, как именно фиксация — смысла, хотя бы. Но и существо изначальной поэзии — импровизация. Мой друг А. Ф. находит в ней избавление и выход из тупика, в который зашла поэзия вообще и в который он постоянно боялся попасть сам. Он, А. Ф. — ссылаюсь на него, так как он многое мне говорил об искусстве слова и сам превзошел в нем едва ли не грань невозможного, — А. Ф. утверждает, и я часто это чувствовал сам, что ему удается придать словам зыбкость, лишить их фиксированных значений, придать словам текучесть, а тексту подвижность. Интонация, темп, динамика громкости (не обязательно при чтении вслух, но и при артикуляционном внутреннем чтении) могут быть переменны — в зависимости от настроения читающего. Он пропускает отдельные слова, оставляет незаполненные места даже для целых фраз — смысл их дополняется при чтении, и могут при этом рождаться разные варианты. Паузы имеют значение — длительность их и напряженность, — при том, что именно слова могут оставаться пустыми, — кому не знакома эта незначащая речь, когда в наплыве чувств слова исчезают? В идеале своем поэзия жаждет отсутствия слова. Музыка — тишины. Живопись — белого листа. И я подхожу к пределу, где должен умолкнуть.
Прекрасно в искусстве то, что ведет к его исчезновению. Мы в каждый миг стремимся к собственной смерти — разве это не придает вкуса жизни? Жизнеспособно лишь искусство живое — искусство без фиксации, искусство, призванное к умиранию.
5.
Десятки лет я собирал картины. Я спасал то, чему отказываю теперь в праве на существование. Я не жалею о содеянном — я следовал самому себе, одной стороне своей двойственной человеческой натуры. Но еще менее жалею о несодеянном: я не хотел быть рабом искусства такого, каким оно было и какое оно еще есть.
Смогут ли отказаться от такого искусства?
Я не смог. И многие еще не смогут. Все мы подобны тем, кто ищет и не находит душевного покоя, общаясь через громкую молитву с Богом, который видится им где-то вне их. И вот говорят им:
— Откажитесь от молитвы, обращенной к такому Богу, его нет. Есть другой, но Он внутри вас. Лишь молчаливое общение с этим Богом, который есть ваш собственный дух, дает истинное умиротворение.
Если так скажут молящимся, не легко им будет понять смысл этих слов; но будет еще труднее отказаться от тех молитв, к которым они привыкли.
Но кто-то сможет. Дорогой мой А. Ф. достиг этого. И потом еще многие другие смогут. А позже будут удивляться тому, что когда-то молились иначе.
А я умолкаю.
Финкельмайер — Никольскому.
Получил, наконец, от тебя письмо. Еще раньше — деньги. Спасибо! Очень пригодились. Приобрел на них кое-что из одежды — а то очень замерзал на работе. Но теперь тепло одет, здешняя весна идет к концу, я понемногу перестаю кашлять. В будущем постараюсь обходиться заработанным. Это те же, примерно, 50 рублей в месяц. Работа, которую я делал до последнего времени, большего не стоила: таскал ящики, ломом долбил мерзлоту, выламывал из-подо льда кирпичи. Были сильные морозы. Говорят, что здесь не хватает тридцати процентов кислорода, от этого долго не проходит кашель и якобы от этого же ссадины на руках не заживают и гноятся неделями. Теперь, кажется, у меня изменилось к лучшему: знакомый адвентист устроил мне работу на пристани сторожем. Это значит, что ночью я сижу на пристани, а днем сплю, это очень удобно, так как меньше общаюсь с компанией по общежитию. Адвентист все зовет меня к себе, но я боюсь его религиозных бесед. Он видит во мне представителя Богом избранного народа и поэтому, в силу каких-то непонятных мне адвентистских убеждений, считает своим долгом заботиться обо мне. Это очень трогательно. Но он, простая душа, недоумевает, отчего это его особенное внимание к моей персоне меня тяготит. Я, к сожалению, не всегда способен это скрыть. Но все это — личное. Благодаря труду я свою натуру, которая, по существу, есть натура паразитическая, антиобщественная, должен перевоспитать и думать не о личном, а об общественном в первую очередь. Пока мне это плохо удается. Но я стараюсь. Например, мне было поручено прибить на пристани большой лист с перечислением соцобязательств трудящихся района на этот год. Я эту бумагу внимательно изучил. На ней нарисована оленья упряжка на фоне полярного сияния; в другом месте — охотник в кухлянке бежит на лыжах, а перед ним собачонка. Собак здесь, кстати, очень много, они по ночам целой стаей приходят ко мне на пристань, ложатся около и греют мои ноги. Но тебя интересуют соцобязательства. В целом план этого года по различным отраслям народного хозяйства мы выполним к 25 декабря. Общее поголовье оленей мы доведем до 50 тысяч голов и добьемся резкого снижения яловости маточного поголовья, причем от 100 важенок получим не менее, чем по 74 теленка! Что касается голубых песцов, то каждая самка берет обязательство дать деловой выход в пять и пять десятых щенка! Согласись, что это немало. Общепит широко внедрит передовые методы торговли и обеспечит бесперебойное снабжение трудящихся. А мы, передовые труженики речного флота, навигационный план выполним еще к 25 сентября и усилим работу по рационализации и изобретательству. Но особые успехи ждут нас в области здравоохранения и культуры: красные чумы будут полностью укомплектованы медицинскими работниками, учителя повысят свое педагогическое мастерство, а грамотность в течение года повысится на один класс не менее чем у ста малограмотных.
Эти сияющие перспективы, как ты понимаешь, заслоняют собой всякую мысль о возможном пересмотре моего дела. И если я нужен здесь, где грядет такой подъем и где так хорошо прикорнуть на пристани ночью, — значит, я останусь здесь, сколько это будет необходимо обществу, чтобы выполнить соцобязательства.
Словом, я начинаю вживаться. Я начинаю уважать себя. Никогда я не был так близок к тому, чтобы стать как все. Разве не это самая прекрасная миссия на земле — быть как все и не стремиться быть иным?
Адвоката, пожалуйста, поблагодари. Пусть он не огорчается, если ему ничего не удастся.
И еще, Леня, просьба: поговори с Фридой. Я напишу ей письмо, но боюсь, что оно не будет убедительным. Я не умею объяснить ей самых простых вещей. Может быть, она надеется на мое скорое возвращение. Скажи ей, что я твердо решил: нам не следует быть вместе. Я уверен, что дочек она вырастит, я преклоняюсь перед ее жизненной стойкостью. Я уверен также, что моему отцу там, рядом с ними, всегда будет лучше, чем где-то еще, — да и где еще он смог бы жить? Но мне там не место. Я вовсе не желаю смотреть вперед: я не вижу для себя впереди ничего, кроме темноты. Но пусть Фрида не смотрит назад и не пытается оттуда, из неудачного прошлого, перекидывать какие-то мосты в будущее, которого не будет, — по крайней мере у нас с ней. Объясни ей это более понятно, ты сумеешь. И прости, что надоедаю. Теперь, к лету, письма должны идти быстрее.
Данута — Финкельмайеру.
Много случилось от времени, когда уехала из Москвы. Правильное слово по-русски тоска. Так я чувствую все дни. Радовалась, что не одинокая приехала в Литву, а с хорошими друзьями. Но случилось, что Леопольд Михайлович умер здесь, а ты теперь на севере. Нехорошо будет мне жить здесь, когда тебе быть на севере четыре года. Могу приехать туда. Я много там умею. Тебе трудно, а я ничего. Я все знаю, чтобы можно было жить на севере. Поэтому не надо беспокоиться, что не смогу. Тебе не буду мешать, если боишься. Только помогать.