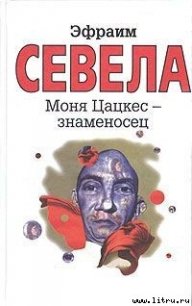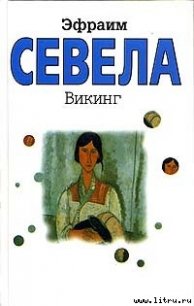Попугай, говорящий на идиш - Севела Эфраим (полные книги txt) 📗
— Возьми эту икону и продай. Цена ей больше двух тысяч долларов. Поторгуешься — и три тысячи выбьешь. Бери и знай мою доброту.
Я этого не видел. Но один мой знакомый клялся, что был свидетелем вот какой картины. По Риму, в страшную жару, толкаясь на тесных и потных тротуарах, двигалась странная фигура, на которую недоуменно оглядывались прохожие. Немолодой еврей с печальными глазами, вислым носом и вялыми мягкими губами, истекая потом и прикрыв от солнца голову носовым платком, тащил на спине тяжелую доску с намалеван-ным на ней изображением Христа. Обрывки упаковки свисали клочьями газетной бумаги с краев иконы, и с одного из клочьев строго и недовольно смотрел на итальянцев советский лидер Брежнев.
Аркадий таскал икону по всему Риму, из конца в конец, переводя дух в антикварных лавках. Там он показывал товар и на жуткой смеси русского языка с итальянским и несколькими словами на идише пытался объясниться. Ему не давали трех тысяч долларов, которые посулила ему Алла, и не дали и двух тысяч, которые она ему была должна. С неимоверным трудом ему удалось получить за икону пятьсот долларов, и он был счастлив не только потому, что получил хоть какие-то деньги, а из-за того, что больше не надо было таскать на спине эту тяжесть, стирая кожу до крови и наживая себе нарывы на лопатках.
А главная радость была от того, что связь с Аллой порвалась окончательно, он стал свободным человеком, неженатым и никого не боящимся. Он вернулся к своему былому амплуа «холостяка» и «завидного жениха», и на его толстых губах снова заиграли блудливая ухмылочка, какая всегда возникала у него при встрече с женщинами не старше, скажем, сорока лет.
В Риме можно было, наконец, одеться по-человечески. Джинсы, настоящие американские джинсы, синие, с блеклыми подпалинами на коленях и заду, за которые в Москве надо было отдать состояние, чтобы получить их из-под полы, на черном рынке, здесь продавались на каждом углу и совсем по дешевке. Но пусть в джинсы облачаются одесские и киевские мальчики. Аркадий Полубояров, москвич, интеллигент, зрелый мужчина с тонким и разборчивым вкусом, оделся самым изысканным образом: замшевый пиджак с кожаными пуговицами — он всю жизнь мечтал о таком, туфли-мокасины, мягкие и легкие, как перчатки, фуляровый платок на шее, в расстегнутом апаш вороте рубашки (35% хлопка, 65% полистирол, не мнется, в глажке не нуждается). Голова блестела бриллиантином, в тонких черных усиках, отращенных уже за границей, проглядывали редкие нити благородной седины. В Москве он курил сигареты, а в Риме — толстую коричневую сигару. Сигару он не курил: сразу начинается удушающий кашель, а также и по той причине, что курение сигар разорило бы дотла. Поэтому у него была одна-единственная сигара — толстая, темно-коричневая, с обкуренным концом. И никогда не дымившая. Погасшая. Он носил ее, как носят галстук, небрежно зажав толстыми губами и стараясь не заслюнявить. А то сигара раскиснет, рассыплется, придется разориться на новую.
Сигара была ему к лицу. С нею в зубах он походил на латиноамериканца. Этакого бизнесмена из Рио-де-Жанейро, заскочившего в Европу поразвлечься, а заодно и подписать парочку контрактов на поставку, скажем, кофе.
В ожидании визы в Америку Аркадий фланировал по римским улицам. Его видели на виа Венетто, на вилле Боргезе. Он толкался среди паломников на площади перед добором Святого Петра, оценивающе щурился на проституток на Пьяцца-дель-Пополо. Только лишь щурился. Проститутки в Риме были совсем недороги. Но барахло в магазинах еще дешевле. И надо быть сумасшедшим, чтобы отдать за сомнительное удовольствие, причем за один раз, стоимость пары приличной обуви. Уж лучше заняться онанизмом. Не истратишь ни одной лиры, и полная гарантия от венерических болезней. Среди эмигрантов из России, которые заполонили Рим в такой степени, что вслух заматериться на улице опасно — обязательно рядом окажется женщина, которая скорчит кислую или негодующую гримасу, найти себе бесплатную сожительницу, чтоб на равных началах: ты — мне, я — тебе, удовлетворить взаимно половые потребности, Аркадию тоже не посчастливилось. Хоть одиноких евреек, правда с детьми, которые оставили на родине своих русских мужей, кругом было полно, но войти с ними в близкий контакт, завершающийся постелью, ему не удавалось.
Его сторонились и женщины и мужчины. Так что, будь он даже гомосексуалистом, шансы на успех все равно равнялись нулю. А избегали его бывшие соотечественники по той же причине, что и в Москве. За длинный язык, который уже однажды доставил ему много хлопот.
В компании эмигрантов, чтобы как-то выделиться, обратить на себя внимание, он стал напускать на себя томную загадочность, намекая на то, что он знает кое-что, о чем не каждому дано знать. А что бы хотели знать русские евреи, томящиеся, как на горячей сковородке, в Риме, без твердой уверенности, что их впустят в благословенную Америку? По русско-еврейскому Риму носились слухи, что бывших коммунистов на пушечный выстрел не подпускают к Америке. И комсомольцев. А ведь почти каждый в России торчал в комсомоле, пока седина не ударяла в бороду. Людей с психическими отклонениями, то есть попросту малохольных, отправляли в Израиль. И только туда. Никто больше не хотел принимать. Пусть, мол, резвятся на исторической родине, среди своего брата еврея.
Аркадий намекнул, что он на короткой ноге кое с кем из американцев.
— Из посольства?
— Мелкая шушера, — пожимал плечами Аркадий. — Есть кое-кто поважнее. Из тех, кто не любят афишироваться. Им это ни к чему. Но решают они. И только они.
Людям нетрудно было догадаться, кого имел в виду Аркадий. У него рука в Си-Ай-Эй. Он на короткой ноге с американской разведкой. И контрразведкой тоже. Лучше при нем держать язык за зубами. Возможно, ему даже и платят за то, что всякие сведения приносит. Вынюхает, кто что скрывает в своем прошлом, и — туда. Хау ду ю ду? Принимайте отчет! Известно, на какие денежки он ходит, в замше и раскуривает дорогие сигары.
Как и в Москве, в Риме тоже образовался вокруг Аркадия вакуум. Русские евреи его избегали. И мужчины. И женщины. Так что спал он как монах и только облизывался на проституток, а по ночам ему снились кошмары на сексуальной почве.
Но добро бы только этим все и ограничилось. Судьба не знала милосердия к Аркадию.
Одному одесскому мяснику с Привоза американцы отказали из-за того, что скрыл такой немаловажный факт своей биографии, как пребывание в рядах славной партии коммунистов. Нашли коммуниста! Ворюга! С уголовной рожей. И бандитскими замашками. Ему партийный билет как ширма, чтоб за ней свои дела крутить и этим самым подрывать экономику СССР. Он этот коммунизм видел в гробу в белых тапочках. В Америке он будет как рыба в воде. Гангстер лучшей пробы! Любая мафия не побрезгует пополнить им свои ряды.
Нет! Коммунист! Скрыл! Отказать! Одесского мясника наконец согласилась впустить Канада, и он, успокоившись, на досуге стал прикидывать, кто это его заложил американцам. Кому было известно, что он имел несчастье числиться в России в коммунистах? В его памяти всплыла потасканная рожа Аркадия, который на короткой ноге с американцами, и поэтому мясник с ним советовался о своей беде. Осведомитель! Стукач! Ему открыли душу, а он, фрайер, несет в Си-Ай-Эй!
Когда Аркадий ночью безмятежно поднимался по истертым ступеням знаменитой лестницы на площади Испании, известной ему по давно виденному фильму «Девушки с площади Испании», кто-то кулаком, тяжелым, как молот, стукнул его по макушке, и он полетел вниз, считая носом ступени, одну за другой, десятую и двадцатую, пока не затормозил в самом низу, уткнувшись бесчувственным теменем в бортик фонтана, не менее знаменитого, чем лестница.
Он очнулся от утренней прохлады, и поначалу ему показалось, что это не наяву, а он смотрит фильм «Девушки с площади Испании». Тем более что по лестнице сбегали вниз, хохоча, точно такие же, как в фильме, девицы. Но, завидев распростертого на земле немолодого джентльмена, они бросились врассыпную, и это окончательно вернуло его к реальности. Он смочил голову водой из фонтана, смыл с носа и подбородка запекшуюся кровь. А вот сигары не нашел. Искрошилась и рассыпалась в прах, когда он катился по ступеням. Пришлось потратиться на новую сигару, обкурить ее и, погасшую водрузить на прежнее место, в угол рта.