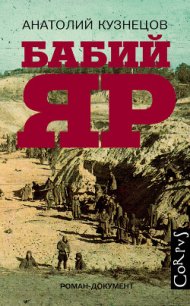Хочу верить… - Голосовский Игорь Михайлович (лучшие бесплатные книги txt) 📗
— А я пишу о подпольщиках, — объяснил я, поймав вопросительный взгляд Майбороды. — Меня тоже интересует судьба ее матери. Помогите нам, пожалуйста.
— В какое время поступила в больницу? — отрывисто спросил Егор Тимофеевич, глядя в стол.
— Двадцать шестого, двадцать седьмого сентября тысяча девятьсот сорок второго года, — сказал я.
— Как фамилия?
Никто из нас не решился ответить. Вот сейчас он скажет: «Нет, не помню». И мне и Маше бессознательно хотелось отдалить этот момент.
— Вы только, пожалуйста, не спешите, — умоляюще сказала Маша. — Вы подумайте. Мы лучше подождем… Хорошо?
— Мне спешить, а тем паче обдумывать нечего! — сухо заявил Майборода, покосившись на нее. — Смогу — отвечу. Говорите фамилию-то…
— Зайковская… Людмила Иннокентьевна Зайковская. Молодая женщина. Беленькая такая… Красивая… — сказал я.
Егор Тимофеевич нахмурился, встал. Подошел к окну. Мы ждали не дыша.
— Мать, говоришь, твоя? — обернулся он к Маше. В его голосе мне послышалось колебание. Боясь, что Маша все испортит, я ответил:
— Родная мать, Егор Тимофеевич, но вы не стесняйтесь, правду говорите. Ей все известно, что было и что Чудовский про Людмилу Иннокентьевну показывал на суде, в общем все… Теперь это уже не поправишь, но нам нужно знать все до конца.
— Двадцать шестого сентября привезли ее в больницу, — глухо сказал Майборода. — Это я хорошо запомнил, потому что доставил ее сам Бронке и велел мне глаз с нее не спускать. Он предупредил, что она очень большую услугу оказала господину Кернеру и Кернер, дескать, за нее всем врачам головы поснимает, если что с ней случится. «Ты будешь возле нее, — приказал мне Бронке. — Что попросит, принесешь. Да смотри, чтоб лекарства вовремя ей давали! С докторами я сам поговорю». Ушел он, а я заглянул в палату. Лежит на кровати женщина, видная собой, глаза закрыты. Коса расплелась, на пол свесилась. Увидела меня, попросила водички холодной. Подал я ей напиться. Через сколько-то времени врачи пришли, Ксения Васильевна Липатова и Юрий Гаврилович Скорняк, известный в нашей области хирург. Казнили их обоих весной тысяча девятьсот сорок третьего года за то, что они подпольщикам помогали. Я про них давно догадывался, но помалкивал. Не мое это было дело.
Маша застыла у стены. Лицо ее побледнело, глаза были полузакрыты. Посмотрев на нее, Майборода продолжал рассказывать, но уже не так подробно, явно стараясь поскорее закончить.
— Установили врачи болезнь, гнойный аппендицит. Два дня всего и пробыла Зайковская в палате. Утром сменил меня второй надзиратель, Мартынов, а еще через сутки пришел я и не застал уже ту женщину. Ночью худо ей сделалось. Мартынов, в коридоре стоял, видел, врачи забегали, на коляске повезли ее в операционную, а обратно уже доставили под простыней… Разбудили немецкого врача, тот акт о смерти подмахнул. На рассвете из морга свезли ее на кладбище. Может, оно для нее было и к лучшему. Отмучилась, сердечная…
Маша плакала. Она закрыла лицо руками, плечи ее вздрагивали. Я попросил у хозяйки стакан воды и подал Маше, но она не стала пить.
— Значит, Зайковская умерла в больнице от аппендицита двадцать восьмого сентября тысяча девятьсот сорок второго года? — спросил я. — Это совершенно точно?
— Чего уж точнее! — буркнул Майборода.
— Раньше вы кому-нибудь рассказывали об этом?
— Никто не спрашивал.
— А Чудовский?
— О прошлых делах у нас с ним разговору не было.
— Как думаете, могу я еще кого-нибудь спросить о последних днях Зайковской?
— Кого же? — Егор Тимофеевич покачал головой. — Скорняка и Липатову казнили, больницу немцы, когда отступали, сожгли…
— А Мартынов жив?
— Может, и жив, но где вы его будете искать? Я даже имени его не знаю, сам он был не из местных, сибиряк. Мартыновых-то я России, пожалуй, не менее, чем Ивановых. Вот разве Дусю вы найдете… Так вряд ли она что вам скажет… Санитаркой работала…
— Как ее фамилия?
— Не помню. Ей сейчас, должно быть, лет шестьдесят пять, если не померла. Вы ее сразу разыщете. Она как раз напротив больницы жила, в деревянном флигеле. И до войны она санитаркой была и после войны, наверно, тоже… Спросите, вам любой покажет. Только наверняка ничего она не знает…
Маша уже не плакала. Я подал ей шубку. Мы поблагодарили Егора Тимофеевича, оделись и распрощались. Круг замкнулся! Только дальнейшая жизнь Зайковской могла бы пролить свет на ее поведение в тюрьме. Я надеялся узнать о ее жизни… Но она умерла тогда же, в тысяча девятьсот сорок втором году. Мои поиски с этого момента становились бессмысленными.
Маша, видимо, тоже это поняла. Она шла, задумавшись, закутав лицо платком. Падал снег. Все было бело кругом… На станции она сказала мне печально, но твердо:
— Хватит, Алексей. Теперь я вижу, что отец был прав. Ничего нельзя доказать.
— Может, съездить еще в Прибельск? — неуверенно пробормотал я.
— Вы должны вернуться в Москву.
— Значит, примириться с поражением?
— Вы уже примирились с ним, — тихо сказала Маша. — Не подумайте, что я осуждаю. Вы сделали все, что могли…
— Положим, не все, — слабо возразил я. — Можно было еще кое с кем встретиться…
— С кем, например?
— Ну хоть с Зинаидой Петровной Стекловой, опекуншей вашей, — ответил я, не думая, но тут же эта мысль мне понравилась.
— Зачем? — пожала плечами Маша. — Она уж наверняка ничего не знает!
— А вы вообще-то виделись с Зинаидой Петровной после того, как отец увез вас? — оживившись, спросил я.
— Нет.
— Это уж совсем нехорошо, — укорил я Машу. — Она вам не чужая. И потом вы не правы. Быть не может, чтобы она ничего не знала. Просто вам не говорила. Вы еще малы были. Она два года жила в оккупации. Людмила Иннокентьевна, наверно, не раз к ней приходила… Да вы-то разве не помните?
— Помню, — вздохнула Маша. — Смутно помню маленькую, темную комнатку, узкую, как пенал. Дверь открывается, и вбегает мама. Она холодная, румяная, от нее пахнет духами. Я взлетаю под потолок, мне страшно и сладко… Кажется, потом мы шли по улице… Это было зимой… — Она умолкла, растерянно и виновато улыбаясь.
— И все? — спросил я. — Маловато. Зинаида Петровна знает побольше.
— Вы хотите поехать к ней? Все равно это ничего не даст. — Маша безнадежно покачала головой. — Наивно думать, что мама ей рассказывала о подпольной работе.
— Не будем гадать на кофейной гуще, — ответил я. Апатию мою как рукой сняло.
Маленький полутемный зал станции постепенно заполнялся народом. Мы зашли в буфет и выпили по стакану чуть теплого, несладкого кофе. В десять часов вечера подлетел поезд, постоял полминуты и умчался, увозя нас.
Мы снова стояли в тамбуре. Рассказывая Маше о своей первой командировке в таежный леспромхоз, я взял ее за руку. У нее были горячие, мягкие пальцы. Они дрогнули в моей ладони. Маша покраснела и отодвинулась, но не отняла руки. Прервав свой рассказ, я наклонился к ней и прошептал:
— Не отчаивайтесь, Маша! Я все сделаю для вас! И если на дне океана скрывается тот, кто знает правду о вашей маме, я найду его! Найду непременно!
Выглянула проводница, фыркнула и громко сказала:
— Шепчутся и шепчутся, конца этому нет. Как сядут в вагон, так начинают заниматься. Вагон не для этого приспособлен! Приедете на место — целуйтесь сколько угодно!
Я готов был провалиться сквозь пол. А Маша очень серьезно ответила:
— Что же нам делать, если мы молодожены? У нас медовый месяц.
Вернувшись в купе, мы долго еще переглядывались, вспоминая строгую проводницу.
В полдень приехали в Вознесенск и прямо с вокзала отправились к Стекловой.
— Вот здесь я жила, — сказала Маша, подведя меня к длинному, похожему на барак строению с низкими вросшими в землю окнами и криво нахлобученной крышей.
— Тетя Зина на дровяном складе работала приемщицей — видите высокий забор? Наверно, она и сейчас там. А может, сперва зайдем в дом?
Дверь была не заперта. Маша провела меня, держа за руку, по темному коридору и, заглянув в комнату, отшатнулась.