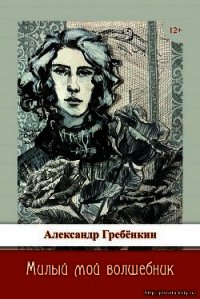Я отвечаю за все - Герман Юрий Павлович (читать книги без txt) 📗
— Куда? — спросил Устименко.
Повторить Закадычная не решилась.
Неожиданный инспекторский смотр первой терапии кончился полным разгромом. Воловик истерически рыдала и заламывала толстые руки, Устименко вызвал по телефону Нечитайлу, заменявшего его во время поездки, но ему ответили, что Александр Самойлович уехал с товарищем Лосым на охоту.
— Ах, на охоту? — вежливым от бешенства голосом переспросил главврач. — И давно он охотится?
— Со вчерашнего дня, — ответила супруга доктора Нечитайлы.
— Ну, ни пера ему, ни пуха, — сказал Устименко.
Он вдруг почувствовал себя ужасно усталым и в своей хирургии попросил у дежурного Волкова таблетку кофеина. Потом вспомнил, что ничего не ел со вчерашнего дня, даже чаю не пил. И конференция вывалилась из его головы, конференция, назначенная ровно на час дня, конференция, созванная еще из Киева телеграммой, которая стоила много денег. Впрочем, он не опоздал, оставалось еще минут двадцать, за которые няня, тетя Поля, еще не забывшая, как сухо он с ней поздоровался, напоила его чаем и покормила каким-то гарниром, оставшимся в кухне. В кабинет понемногу подтягивались доктора, сопя вошел Богословский, за ним розовый, только что с лыжной прогулки, успевший загореть профессор Щукин, Саинян, Люба, Лорье привел своих докторов-водников, Зеленной — железнодорожников. Пришла с трагическим лицом Воловик, ввалился, видимо прямо с охоты, нервно-веселый Нечитайло (жена, надо думать, уже передала ему пожелание Устименки насчет пуха и пера). Воловик села в углу, подняла домиком брови, рядом с ней пристроилась Закадычная, зыркала по сторонам испуганными глазенками.
— Вы что так насупились? — спросил Устименко Николая Евгеньевича.
Тот только рукой махнул, словно Устименко и сам знал.
— Да что случилось-то?
— А то, что Крахмальников приказал долго жить.
— Когда? Почему? Как? — совсем изменился в лице Устименко. — Как это могло сделаться?
— А так и сделалось, что от всех этих перевертонов супруга его занемогла — ничего особенного, неврозик, зашалило сердечко, а он возьми и подхватись при этом известии, да ночью и сбежал домой. Ночь скверная была, мокрая, с гололедом. Оскользнулся и упал. Дорога дальняя, после всего имевшего место Илья Александрович был, как вам известно, изрядно слаб. Ну, естественным манером, двусторонняя пневмония, все это молниеносно, тут уж от катастрофы податься было некуда. Вот чего ваш буланый мерин, товарищ Губин, натворил, хоть и покаялся…
Устименко молчал.
Народу набралось так много, что поступило предложение перейти в вестибюль онкологического отделения — там было и высоко и широко. Оказывается, больные, желающие присутствовать на загадочной конференции лечащих и лечащихся, уже нанесли туда стульев, табуреток и скамей и заслали в кабинет главного врача своего делегата — Елисбара Шабановича…
По пути к онкологии Устименку нагнали супруги Щукины. Федор Федорович крепкой рукой взял Устименку за локоть, близко заглянул в его бледное, измученное лицо, сказал негромко:
— Я от Лялиного имени и от себя: мы узнали, что наша квартира была предназначена вам. Мы не можем…
— Бросьте эти глупости, — круто ответил Владимир Афанасьевич. — Мне ничего сейчас не нужно. Я — один.
— Это как так? — смешался Щукин.
— А вот так: один.
— Но семья ваша…
— Нет у меня семьи, — тихо произнес главврач. — Нету. Уехала моя семья и не приедет больше.
— А-а, — сконфузился Щукин. — Вы тогда простите. Я не знал…
Он взял жену под руку и немного с ней отстал, а Устименко подумал, что ему надо наконец покончить со всякими жалкими размышлениями о несостоявшейся личной жизни и хоть немного сосредоточиться на том докладе, который предстояло вскорости произнести и который, как, впрочем, вся их киевская затея, был, несомненно, чреват последствиями.
Уже когда готовился он начать, выжидая лишь конца затянувшегося процесса веселого рассаживания, показалось ему, что рядом с Гебейзеном видит он Варвару, а чуть позже он и точно ее разглядел — она сидела между Гебейзеном и отцом и слушала старого патологоанатома, который с вежливым выражением лица ей что-то рассказывал.
«И ему она уже нужна, — подумал Владимир Афанасьевич, — и он ей уже рассказывает. Что за свойство такое — всего ничего в больнице, а людям без нее, как без рук!»
Амираджиби издали помахал Устименке рукою, мелькнула плутоватая улыбка Саши Золотухина, про которого Устименко знал, что он выписан, а чуть погодя увидел Владимир Афанасьевич и самого Зиновия Семеновича, который, несмотря на воскресенье, явился на больничную конференцию. И по лицу его было заметно, что он недоволен собой, — наверное, завлек его Александр. Да и впрямь, оно было почти невероятно: первый секретарь взял да и приехал на такое, нисколько не величественное и даже, напротив, мелкое мероприятие, как нынешняя конференция. Решительно не положено было ему сюда приезжать, а вот он взял да и явился, и сидит, сам удивляясь себе!
«Ничего, послушаешь, полезно», — подумал Устименко и увидел Евгения Родионовича, который хлопотал, чтобы сесть поближе к Золотухину. Весь его облик являл почтительно возбужденное и ласково-предупредительное состояние «в адрес лично Зиновия Семеновича», как любил выражаться тот же Женька.
— Можно мне начать? — угрюмо осведомился Устименко. — Или еще будем пересаживаться с места на место?
Евгений Родионович перестал мельтешить, и только очи его злобно блеснули на Устименку. А тот с ходу, словно с середины, стал рассказывать, без всякого предисловия и стараясь не сгущать краски, про то, как «вообще новый больной» поступает в «вообще больницу». К чему он ведет свой рассказ, было непонятно, говорил он хоть и угрюмо, но без раздражения, и слушатели постепенно начали слегка посмеиваться — рассказывал главврач, ничего не преувеличивая, но именно то, что испытал каждый из здесь сидящих, если не в унчанской больнице, то в другой, но испытал непременно.
Внезапно уловив ироническую улыбку профессора Щукина, Устименко обратил свою речь к нему, хоть и не назвал его по имени. И чем больше сопротивлялся его рассказу седой, загорелый и красивый Федор Федорович (а в том, что Щукин сопротивляется, Владимир Афанасьевич уже нисколько не сомневался), тем сокрушительнее становились его теперь уже злые фразы, которыми он гвоздил, как дубиной, привычно жестокий и бесчеловечно равнодушный режим тех больниц, к которым применимо понятие: «Конечно, мы не что-нибудь особенное, но ведь не хуже других!»
— Такого рода больницы и даже клиники, — неожиданно для самого себя, с гневом в голосе произнес Устименко, — устраивают только гастролеров-профессоров с их архиерейскими выходами, важной помпезностью и нежеланием вникать ни во что, кроме своей операции или своего диагноза, в то время как больничная повседневность решает порою неизмеримо больше, нежели камланье первосвященника или сравнительно искусная операция…
— Ого! — воскликнул Евгений Родионович.
— Вы что, товарищ Степанов, за профессоров обиделись? — сдвинул темные брови Устименко. — Или слишком высоко, не по чину я замахнулся?
— Обобщаете зря! — с усмешкой крикнул толстый Зеленной.
Тут его совсем понесло, это он почувствовал по глазам Варвары, которые с весело-испуганным удивлением появлялись то справа огурцеобразной головы доктора Лорье, то слева. Лорье мешал ей смотреть на докладчика, и Володе стало на мгновение смешно, когда она вдруг стала толкать Лорье в плечо ладонью, словно сдвигая с дороги тяжелую вещь.
Последовали и еще реплики, на которые Устименко сообщил, что это-де только цветочки, ягодки впереди.
И действительно, ягодки были впереди.
Уже почти никто не смеялся, наоборот — и больные, и медики слушали Владимира Афанасьевича насупившись, а потом и гул даже прокатился среди больных; медики тут уже почти что единодушно осудили манеру «выносить сор из избы» — вечное и горькое заблуждение всех корпораций и цехов, обладающих набором знаний и опыта в своем деле…