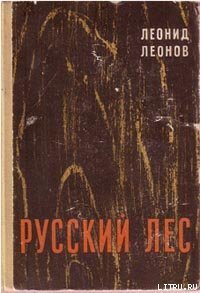Пирамида, т.1 - Леонов Леонид Максимович (книги онлайн полные версии TXT) 📗
Против ожидания никаких фортелей, из описанных в Четьи-Минеях, посетитель не выкидывал, тем уж хорошо, что не чадил и не гадил. Дальше у о.Матвея и вовсе от сердца отлегло, когда сидевший на крыльце громоздкий товарищ в бурке оказался не каким-либо соратником по темным ночным делишкам, а всего лишь приехавшим на всесоюзную выставку достижений моздокским виноделом.
– Сущий ребенок по нраву, но в силу кавказской их обидчивости не хотелось оставлять его дома одного. Вместе с тем было бы рискованно да и затруднительно, – прибавил Шатаницкий, – тащить его с подобными габаритами в деревянное ветхое строеньице, да еще через входную дверь!
В поддержание разговора хозяин справился, давно ли у винодела такая слоновость – по болезни или врожденной наследственности?
– Возможно, от падения, но в точности никто не помнит... – последовал откровенный ответ.
Мягко пошутив насчет постоянных, с виноделом, транспортных недоразумений, ибо не в контейнере же его перевозить на дальние расстояния, профессор просил дозволения подержать его снаружи, на крыльце.
– Отчего же, можно и снаружи, можно и на крыльце, – со вздохом облегчения, словно успокоительные капли принял, согласился о.Матвей.
– Судя по щебету, который услышал с крыльца, это у вас птичка овсяничного напева? – справился еще издалека гость про канарейку, причем отметил с видом знатока, что у молодых и трель почище, и свист позабористей.
С печалью отозвавшись, что благородное некогда увлечение пернатыми певцами все более вытесняется повсеместной модой на радио, корифей ласкательно потянулся было к птичке, изобразив пальцем рогатую козу, отчего бедняжка забилась в угол, с головой прикрывшись растопыренным крылом.
– Слепая она у нас, бедняжка! – сказал о.Матвей, собственной персоной заслоняя желтокрылую любимицу, и на указанье Шатаницкого, что знатоки как раз слепым канарейкам приписывают особо качественное пенье, возразил последнему из собственного опыта, что с горя не поют.
В свою очередь гость авторитетно указал, что не от душевной сытости, а лишь из боли родится настоящее искусство, где и восхищение сущим окрашено соразмерным отчаянием необходимости однажды расстаться с ним, но, оборвавшись на полуфразе, пощадил целостный мир старо-федосеевского батюшки и стал похваляться своим домашним кенарем тирольского напева, мастью и ростом, вроде гибрид со скворцом, причем выполняет знаменитую арию Мефистофеля, которая про металл.
– Больших капиталов стоит, но ежели согласитесь принять в дар, я бы охотно преподнес его вам. При желании было бы легко переучить его на всенощную... фрагментами, не целиком, конечно: такой понятливый!
Батюшка уклонился, однако, под тем шутливым предлогом, что за подобное чудо отдариться можно только собственной душой, которая самому покамест надобна.
– А ведь глядя на моего компаньона, истинного бугая, вы и меня кое в чем заподозрили, наверно... например, что профессор-то к вам, пожалуй, через стенку заявился, не так ли? – дружественно пошутил Шатаницкий.
– Не без того, не без того... – с опущенным взором повинился о.Матвей.
– Ну, так за кого же вы меня, в простоте сердечной, приняли-то, батенька? – стал настаивать гость.
– Уж будто так и не знаете, за кого, – в том же тоне уклонился о.Матвей, чтобы не портить отношений. – Небось, сами замечали, у всех у вас, у атеистов, что-то общее в лице написано... что у Сильвена Марешаля, что у Вольтера самого: из всех вас он выглядывает, как из телефонной будки. Да известно ли вам, господин хороший, что означенный-то Вольтер так и называл свою братию энциклопедистов братьями по Вельзевулу?
Шатаницкий озабоченно головой покивал в знак уважения к проявленной собеседником учености:
– Неужели?.. Совпадение какое! Но раз уж такой жгучий интерес возбудили, так потрудитесь уточнить тогда, кого же вы в нас-то, святой отец, прозреваете?
– Нет уж увольте, – даже руками замахал о.Матвей. – И давайте покончим наши с вами недостойные прятки...
– Не хотите, так и не надо, не настаиваю. Вообще-то мы и сами не любим, когда нас в лицо опознают, так сказать, на свет вытаскивают... Тем более что в подозреваемом качестве, как оно обозначается самыми дурными словами на всех языках, мы и не существуем... подобно тому как холод и тьма, являясь антитезами тепла и света, не имеют самостоятельного бытия. Понимаете теперь, в кого вы метите? Если же признать все мыслимое за алгебраические псевдонимы, что, разогнавшись во мраке неведомо зачем, стыкаются на орбите с подобными себе и гаснут даже без раскрытия истинной сущности своей, так и моральной окраски у них нет, не так ли? – И пронзительно улыбнулся, сверкнув неживыми зубами. – А в заблужденье вас ввела произвольная, даже на обидный каламбур похожая, словом, чисто фонетическая ассоциация имени Шатаницкий, откуда шаг один до смыслового сближения... Ну, с тем самым, кого из ложной щепетильности вы не желаете назвать. Меж тем в основу моей фамилии, по слухам, довольно нередкой среди поляков северо-осетинского происхождения, положено слово шайтан, что по своей оккультно-мусульманской окраске вообще выводит ее из круга христианской компетенции, не так ли? Таким образом, родословная моя туманится, как говорится, в глубине веков, но в памяти моей живо стоит прадед, кавказский горец с аршинными усами, по семейному преданию, женившийся на одной залетевшей туда на метле да и заблудившейся в тех краях немецкой баронессе. Что касается масти, то у нас там немало альбиносов вследствие расщепления видового пигмента под воздействием космических лучей. Вот почему меня и покоробило ваше упорство, словно боитесь уста свои осквернить упоминанием неназываемой особы, чьего общения не гнушался ваш большой и такой незадачливый пророк...
Кстати, вы никогда не задавались вопросом: чем и как может искушаться некто, по самой своей натуре не способный согрешить? Начать с того, что посторонних свидетелей нашей с вами басни в тексте не указано и, поверьте, уж мне-то стало бы известно, если бы искуситель сам же кому-нибудь и проболтался о ней... Но с чего бы ему было посвящать мир в историю своего фиаско? Итак, информация о состоявшемся событии могла поступить лишь от главного его участника, не так ли? Вдобавок лаконизм рассказа и отсутствие мотивировок толкают на предположение, что сам рассказчик утаил что-то от всех четверых евангелистов... Не подскажете, что именно? И почему скуповато открывшись одному из двенадцати учеников и двум из семидесяти, не доверился любимцу своему Иоанну, более прочих способному, казалось бы, объяснить последующему христианству проверку великого пророка перед его выходом на арену подвига через злейшего антипода, даже со временным отданием ему в подчиненье, что так неуклюже пытается смягчить Ориген и с ним другие экзегеты. А скажите, Матвей Петрович, вас самого нимало не смущает столь бесцеремонное обращение с вашим шефом, в первую очередь унизительная редакция соблазнов во всех трех турах искушенья, ибо уважение к соблазняемому не мерится ли размером предложенной цены? Конечно, и горы земные тоже постерлись с той поры, но что-то в тогдашней иудейской пустыне не припомню я Эверестов для панорамного обозрения царств земных, способных пленить воображение аскета... И вообще, если Юлиан мучился недоуменьем, как смог при его гордыне искуситель, даром предвиденья знавший все наперед, согласиться на участие в заранее расписанном спектакле... то тем более непонятно, почему сам искупитель, сын такого отца, должен был претерпеть испытательные, ни одним догматом не обусловленные, процедуры? Возникает законное сомнение в добровольности сторон, откуда шаг один до версии о некоем предвечном и обязательном сотрудничестве для пользы дела, что привело бы нас к наиболее каверзному пункту о роли и происхождении Зла. Почему, в самом деле, после безусловной победы Главный не поступил с противником, скажем, как Уран с Кроносом, а позволил ему не только копить ненависть к Добру, но и доставлять людям средства к перманентному его повреждению? Так чем же диктовалось опасное милосердие к падшему – слабостью, презрением, необходимостью? Значит, позволительно считать Зло попущением Добра, эманацией, даже функцией и, следовательно, рассматривать деятельность Главного под углом наполеоновского изречения, будто дело государственного управления состоит в искусстве равномерно волновать возлюбленное отечество... простите? – слегка подался он вперед.