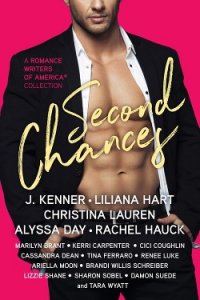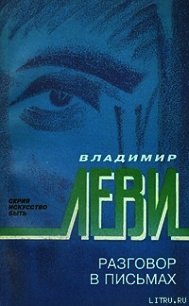Молодость - Кутзее Джон Максвелл (читаем книги онлайн без регистрации .TXT) 📗
Книжные магазины на Чаринг-кросс-роуд открыты до шести. Стало быть, до этого часа ему есть куда податься. После шести придется попросту дрейфовать в субботней толчее искателей развлечений. Какое-то время он сможет плыть в их потоке, притворяясь, будто и ему есть куда пойти, есть с кем встретиться, но в конце концов он сдастся и сядет в поезд, идущий к станции «Арчвей», к одиночеству его комнаты.
«Фойлс», книжный магазин, название которого известно даже в Кейптауне, его разочаровал. Похвальбы насчет того, что в «Фойлс» имеются все, какие только изданы, книги, – явное вранье, да и продавцы, которые в большинстве своем моложе его, где что искать, не знают. Он предпочитает «Диллонс», хоть книги там и расставляют как бог на душу положит. Старается заходить туда раз в неделю, просматривать новинки.
Среди прочих журналов он натыкается в «Диллонс» на «Африкэн комьюнист». Об этом журнале он наслышан, однако до сих пор его не видел, поскольку в Южной Африке журнал этот запрещен. Некоторые из авторов оказываются, как то ни удивительно, его кейптаунскими сверстниками – студентами из тех, что днем спят, а ближе к ночи отправляются на вечеринки, напиваются, тянут из родителей деньги, проваливают экзамены и растягивают три года учебы на пять. И тем не менее они пишут авторитетные по тону статьи об экономике мигрирующей рабочей силы или волнениях в сельском Транскее. Откуда берут они, погрязшие в танцульках, пьянстве и распутстве, время, необходимое, чтобы узнать хоть что-то о вещах подобного рода?
Впрочем, на самом-то деле он ходит в «Диллонс» ради журналов, посвященных поэзии. Они лежат неопрятными стопками на полу, прямо у входной двери: « Амбит», «Агенда», «Поун»; брошюрки, размноженные на копировальных аппаратах в таких богом забытых местах, как Кил; разрозненные, давние выпуски американских периодических изданий. Он покупает их все, по одному каждый, притаскивает всю кипу домой и погружается в чтение, пытаясь понять, кто и что пишет, куда ему лучше сунуться, если он тоже захочет что-нибудь напечатать.
В английских журналах преобладают пугающе коротенькие стишки, посвященные будничным мыслям и переживаниям, стихотворения, которые и полстолетия назад не заставили бы никого даже бровью повести. Что произошло здесь, в Британии, с честолюбивыми мечтаниями поэтов? Или в ней так ни до кого еще и не дошло, что времена Эдварда Томаса давно миновали? Или Паунд и Элиот, не говоря уж о Бодлере, Рембо, греческих эпиграмматиках, китайцах, так ничему их и не научили?
Но, может быть, он судит британцев слишком поспешно? Может быть, он читает не те журналы; может быть, есть и другие, более смелые, не нашедшие пути в «Диллонс»? А может быть, существует круг творцов, которые относятся к преобладающим умонастроениям с таким пессимизмом, что просто не дают себе труда посылать издаваемые ими журналы в магазины, подобные «Диллонс».
«Боттеге-Оскуре», к примеру, – где можно купить «Боттеге-Оскуре»? И если эти просвещенные круги существуют, как узнать о них, как к ним подобраться?
Что касается собственного сочинительства, он надеется оставить после себя, если назавтра ему случится вдруг умереть, несколько стихотворений, которые – после того как их отредактирует какой-нибудь бескорыстный эрудит – будут частным порядком изданы в виде книжечки в одну двенадцатую долю листа и заставят людей покачивать головами и вполголоса повторять: «Как много он обещал! Какая утрата!» Такая у него надежда. Правда, однако же, состоит в том, что стихотворения, которые он пишет, становятся не только все более и более короткими, но и – он невольно чувствует это – все менее значительными. Похоже, в нем уже не осталось того, что позволяло ему сочинять стихи вроде тех, какие он писал в семнадцать лет, в восемнадцать, – стихи, занимавшие иногда по нескольку страниц, порой беспорядочные, громоздкие и тем не менее дерзкие, полные новизны. Те стихотворения, во всяком случае большая их часть, порождались и его постоянными любовными терзаниями, и безудержным, точно лавина, чтением. Ныне, четыре года спустя, он все еще продолжает терзаться, однако терзания стали привычными, даже хроническими, подобием неизбывной головной боли. Теперь он сочиняет натужные, короткие вирши, незначительные во всех отношениях. Какова бы ни была их условная тема, осью, вокруг которой они вращаются, остается он сам – оказавшийся в западне, одинокий, несчастный, – и в то же время – он не может этого не сознавать – стихам не хватает энергии да, собственно, и желания всерьез разобраться в душевном его тупике.
На самом-то деле он постоянно чувствует себя выжатым до предела. Пока он сидит в офисе Ай-би-эм за своим серым рабочим столом, его донимает зевота, которую он изо всех сил старается скрыть; слова, которые он читает в Британском музее, плывут перед глазами. Ему хочется лишь одного – уронить голову на руки и заснуть.
И все-таки он не желает смириться с мыслью, что жизнь, которую он ведет здесь, в Лондоне, лишена цели и смысла. Столетие назад поэты губили себя опиумом и вином, подходя к самому рубежу безумия, чтобы посылать с этого рубежа донесения о своих провидческих переживаниях. Таковы были средства, позволявшие им обращаться в пророков, в прорицателей будущего. Опиум и вино не по нему, он слишком боится того, что они способны сделать с его здоровьем. Но разве усталость и горести не способны совершать ту же работу? Разве жизнь на самом краю физического изнеможения ниже жизни на краю безумия? Разве человек, затворявшийся в левобережной мансарде, за которую он давно уже не платил, или бродивший из кафе в кафе – небритый, немытый, зловонный, клянчивший выпивку у друзей, – приносил большую жертву, губил себя в большей мере, чем тот, кто, облачившись в черный костюм, отправляется в офис ради убивающей душу работы, кто примиряется с пожизненным одиночеством или с лишенной желания плотской любовью? Да, собственно, абсент и лохмотья выглядят ныне несколько старомодными. И много ли, вообще говоря, геройства в том, чтобы надувать домовладельца, не платя ему за жилье?
Т. С. Элиот работал в банке. Уоллес Стивенс и Франц Кафка работали в страховых компаниях. И Элиот, и Стивенс, и Кафка страдали, каждый на свой манер, ничуть не меньше По или Рембо. В том, чтобы предпочесть для себя удел, подобный уделу Элиота, Стивенса, Кафки, никакого бесчестья нет. Да, он выбрал, как и они, черный костюм и будет носить его, точно власяницу, не злоупотребляя ничем, никого не обманывая, живя своим трудом. В эпоху Романтиков художники впадали в безумие с экстравагантным размахом. Безумие выплескивалось из них потоками строк или брызгами краски. Эта эпоха завершилась: собственное его безумие, если ему предстоит претерпеть таковое, будет иным – тихим и сдержанным. Он засядет в углу, настороженный и cгopбленный, как сидит на гравюре Дюрера человек в плаще с капюшоном, терпеливо ожидающий, когда завершится срок его пребывания в аду. И когда этот срок завершится, пережитое лишь сделает его куда более сильным.
Так говорит он себе – в лучшие свои дни. В другие, худшие, он гадает, способны ли чувства, столь монотонные, как его, напитать великую поэзию. Тяга к музыке, когда-то такая мощная в нем, уже ослабла. Не теряет ли он теперь – постепенно – и тягу к поэзии? Не уводит ли его от поэзии к прозе? И не такова ли тайная суть прозы: второе по качеству предпочтение, прибежище падшего творческого духа?
Единственное из написанных им за последние пять лет стихотворение, нравящееся ему, состоит всего из пяти строк:
«К португальским ловцам лангустов»… Он тихо радуется тому, что смог исподтишка протащить в стихи фразу настолько обыденную; пусть даже само стихотворение выглядит при ближайшем рассмотрении все менее осмысленным. У него имеется целый список набранных про запас слов и фраз, расхожих и темных, ждущих, когда для них отыщется место. Вот, скажем, «полымя»: он еще поместит «полымя» в эпиграмму, тайная история которой будет сводиться к тому, что ее создали как оправу для одного-единственного слова – подобно броши, которую создают, чтобы оправить один-единственный драгоценный камень.