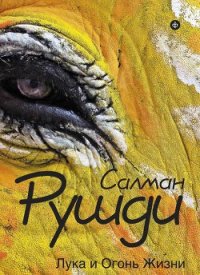Прощальный вздох мавра - Рушди Ахмед Салман (читать онлайн полную книгу .TXT) 📗
и он обращался не только к жене, но и к несчастным узникам, ко всей подневольной стране; охваченный ужасом, склонялся над бренным, сонным, больным телом и пускал по ветру свою страдальческую любовь:
Это был не туберкулез – точнее, не только туберкулез. В 1937 году у Изабеллы Химены да Гамы, урожденной Соуза, которой было всего тридцать три года, нашли рак легкого, уже достигший последней, смертельной стадии. Она отошла быстро, испытывая страшные боли, свирепо негодуя на врага в ее собственном теле, яростно восставая против подлой смерти, что явилась так рано и ведет себя так бесцеремонно. Воскресным утром, когда по воде доносился церковный звон, а в воздухе попахивало древесным дымком, когда Аурора и Камоинш были у ее постели, она сказала, повернув лицо к струящемуся свету:
– Помните историю про испанского Сида Кампеадора [22]? Он тоже любил женщину по имени Химена.
– Да, мы помним.
– И когда он получил смертельную рану, он велел ей привязать свое мертвое тело к лошади и пустить ее в гущу битвы, чтобы враги думали, что он еще жив.
– Да, мама, любовь моя, да.
– Тогда привяжите мое тело к рикше, черт бы ее драл, или к чему найдете, к верблюжьей ослиной воловьей повозке, к велосипеду, только, ради Бога, не к слону поганому, хорошо? Потому что враг близко, и в этой печальной истории Химене приходится быть Сидом.
– Я сделаю, мама.
[Умирает.]
4
Нам в нашей семье всегда было трудно дышать воздухом мира сего; мы рождались с надеждой на нечто лучшее.
Говорить за себя – в этот поздний час? Спасибо за совет, как раз собираюсь с силами; ведь я стал преждевременно стар, стар, стар. Я, можно сказать, слишком быстро жил, и как марафонский бегун, который рухнул, не дождавшись второго дыхания, как астронавт, который слишком весело танцевал на Луне, я использовал весь отпущенный мне воздух. О расточительный Мавр! К тридцати шести годам надышать на полные семьдесят два! (Хотя скажу справедливости ради, что особого выбора у меня не было.)
Итак: трудность имеется, но я с ней справляюсь. По ночам раздаются всякие звуки, вой и рык фантастических зверей, затаившихся в джунглях моих легких. Я просыпаюсь, полузадохшийся, и в дремотном дурмане хватаю воздух горстями, тщетно пытаюсь затолкать его себе в рот. Все же вдохнуть легче, чем выдохнуть. Как вообще легче поглощать, что предлагает жизнь, чем отдавать результаты этого поглощения. Как легче принимать удары, чем бить в ответ. Так или иначе, с хрипом и присвистом я в конце концов выдыхаю – победа. Кроме шуток, тут есть чем гордиться; можно похлопать себя по ноющему плечу.
В такие моменты я и мое дыхание – одно. Вся жизненная сила, какая у меня еще есть, фокусируется на функциях моих сдающих легких, на кашле, на отчаянных рыбьих зевках. Я – существо, которое дышит. Его путь, начавшийся давным-давно с плача, с выдоха, завершится, когда поднесенное к губам зеркальце останется незамутненным. Не мышление, а воздух делает нас тем, что мы есть. Suspiro ergo sum. Вдыхаю, следовательно, существую. Латынь, как всегда, не врет: suspirare = sub (под) + spirare (дышать).
Suspiro: под-дыхиваю. По-дыхаю.
В начале, в середине и в конце было и есть – Легкое: божественный дух, младенческий первый крик, возделанный воздух речи, порывистое стаккато смеха, сверкающая слитность песни, стон счастливой любви, плач несчастной любви, скулеж обиженного, кряхтенье старца, смрадное дыханье болезни, предсмертный шепот; и превыше, превыше всего – безмолвная, бездыханная пустота.
Вздох – это не просто вздох. Вдыхая мир, мы выдыхаем смысл. Пока мы в силах. Пока мы в силах.
– Мы дышим светом! – поют деревья. В конце пути в этом краю олив и каменных гробниц листва вдруг обрела слова. Мы дышим светом! – и вправду так; доходчиво, ничего не скажешь. «Эль Греко», – вот как называется этот речистый сорт, довольно-таки удачно – в честь световдохновенного, богоодержимого грека.
Но с этой минуты я больше не слушаю лепечущую зелень со всей ее древесной метафизикой и хлорофиллософией. Мое родословное древо говорит все, что мне нужно.
У меня было диковинное жилище – увенчанная башней крепость Васко Миранды в городке Бененхели, глядящая с бурого холма на сонную равнину, которой пригрезилось среди блистающих миражей, что она – Средиземное море. И я грезил вместе с ней, и в высоком окне-бойнице мне мерещился не испанский, а индийский юг; бросая вызов времени и пространству, я пытался проникнуть в темную эпоху между смертью Беллы и появлением на сцене моего отца. Сквозь эти узкие врата, сквозь трещину во времени я видел Эпифанию Менезиш да Гаму, коленопреклоненную, молящуюся, и ее домашняя церковка золотисто сияла во мраке просторного лестничного колодца. Но стоило мне моргнуть, как являлась Белла. Однажды вскоре после освобождения из тюрьмы Камоинш вышел к завтраку, одетый в простонародный кхаддар [23]; Айриш, вновь сделавшийся денди, прыснул в свою тарелку с кеджери [24]. После завтрака Белла отвела Камоинша в сторонку.
– Не паясничай, мой милый, – сказала она. – Наш долг перед страной – вести свой бизнес и смотреть за рабочими, а не рядиться мальчиками на посылках.
Но на этот раз Камоинш был непоколебим. Как и она, он был за Неру, а не за Ганди – то есть за бизнес, технологию, прогресс, современность, за город – в противовес всей сентиментальной демагогии о том, чтобы ткать собственное полотно и ездить в поездах третьим классом. Но ему нравилось ходить в домотканой одежде. Хочешь сменить власть – смени сначала платье.
– О'кей, Бапуджи [25], – дразнила она его. – Но я-то из брюк не вылезу, не надейся – разве что ради какого-нибудь сногсшибательного платья.
Я смотрел на молящуюся Эпифанию и благодарил судьбу за великую удачу, которая казалась мне в свое время чем-то совершенно обычным, – а именно за то, что мои родители были напрочь избавлены от религии. (Где оно, это лекарство, это противоядие, этот универсальный антипопин? Разлить бы его по бутылочкам и распространить по всему земному шару!) Я смотрел на Камоинша в домотканой рубахе и думал о том, как однажды, без Беллы, он отправился через горы в городок Мальгуди на реке Сарайю только затем, чтобы услышать выступление Махатмы Ганди, – при том, что Камоинш был сторонником Неру. Он писал в дневнике:
«В этой громадной массе людей, сидящих на прибрежном песке, я был всего лишь крупинкой. Волонтеры в белых кхаддарах во множестве сновали вокруг трибуны. Хромированная подставка микрофона сверкала на солнце. Там и сям виднелись полицейские. Среди людей ходили активисты и просили сохранять тишину и спокойствие. Люди слушались... река несла свои воды, на берегу гигантские баньяны и фикусы шелестели листвой; толпа в ожидании ровно гудела, время от времени раздавались хлопки бутылок с содовой; продолговатые искривленные ломти огурца, натертые подсоленной корой лайма, быстро исчезали с деревянного подноса торговца, который, понизив голос перед выступлением великого человека, повторял: “Огурца от жажды, кому огурца?” Защищаясь от солнца, он обмотал голову зеленым махровым полотенцем. [26]
Потом появился Ганди, и все стали ритмично хлопать в ладоши над головами и распевать его любимый дхун [27]:
20
Слегка измененная цитата из «Гамлета» (акт 5, сцена 2).
21
Цитата из стихотворения «Magna Est Veritas» английского поэта Ковентри Патмора (1823-1896).
22
Родриго Диас де Бивар (Cid Campeador) (между 1026 и 1043-1099) – прославившийся своими подвигами испанский рыцарь, воспетый в «Песне о моем Сиде» (XII в.); герой трагедии П. Корнеля «Сид» (прим. ред.).
23
Кхаддар – одежда из домотканой хлопчатобумажной материи.
24
Кеджери – жаркое из риса и рыбы с пряностями.
25
Бапуджи (Папа) – так называли Махатму Ганди.
26
Здесь использован отрывок из романа Р. К. Нараяна «В ожидании Махатмы».
27
Экуменический распев, славословящий и Раму, и Аллаха.