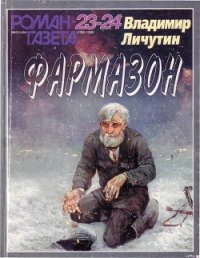Беглец из рая - Личутин Владимир Владимирович (полная версия книги txt) 📗
– Ты вот шутишь, Шура, а я боюсь... Запри на заложку... Время такое лихое. Вдруг кто чужой? Не отбиться ведь... И Федор куда-то пропал. И неуж в пьянку ударился?
– Ну и чужак, так что? А ты не отбивайся. Ляг поскладнее да глаза закрой... От тебя не убудет. Баба – не лужа, хватит и для мужа. Вядмедь-то понюхает тебя, плюнет да и прочь... Скажет, на кой мне сдалась этакая вонючка... Эй, кто там? Федор, это ты? Не шути так... У меня ведь топор-самосек под рукою.
Смешливость в голосе легко сменилась досадой и раздражением. Деваться мне было некуда, и я, наддав в дверь плечом, решительно переступил порог.
– Бабоньки, много ли вас, да не надо ли нас? – закричал я, пытаясь сразу схватить верный шутейный тон.
– Ой, Дедушко Мороз! Ты подарки нам принес? Что-то мешка за плечами не вижу. Не потерял ли, странничая по девкам? Раздарил, поди, все... А заколел-то весь, бедный, и зубами стучит, как серый волк... Нинка, а ну раздевай гостя, сдирай с него шабаленки. Будем медосмотр проводить да на передовую забирать, – приказывала Шура подруге, не сводя с меня блестящих, словно бы покрытых глазурью глазенок. Она стояла передо мною раскрытая, как кустодиевская купчиха перед зеркалом, вся малиновая от шеи до пят, босая на студеном полу, лишь легкомысленно принакрыв обводы широкой кормы махровым полотенишком. Две свечи тускло горели в стеклянных банках, захлебываясь от нехватки воздуха, порою натужно замирали, готовые угаснуть. По бревенчатым стенам, пахнущим свежей смолкой, шевелились тени, на лавке стояла посуда с едою и питьем. Пахло отпотевшей сосной, вениками, пивом и распаренным бабьим телом. Подруга, застывшая в плывучих сумерках со стаканом в руке, будто застигнутая врасплох, уставилась на меня придирчиво, испытующе, как следователь при допросе: складная, длинноногая, на голове серые густые кудряшки папахой; женщина была в пляжном костюме и своим видом походила на пловчиху перед прыжком в воду. Насутулившись, любопытно взглядывая на меня, схлебывала мелкими глотками пиво. Под пристрастным досмотром подруг я торопливо стал растелешиваться, стесняясь своего белого приоплывшего тела, по-бабьи поникшей груди, квелых рук с вялыми ручейками вен и выпирающих из шкуры коленей, похожих на крохотные наковаленки. Я оглядывал себя придирчивыми глазами женщин и находил себя жалким старичонкой...
– А мужичок-то наш хоть куда... Смотри, Нинка, дедушко-то хоть куда. – Шура обошла меня вокруг, мимоходом пихнула выпуклым жарким бедром. – Нинусь, ты ведь любишь мякиньких-то?
– Мало ли кого я люблю... У меня муж есть, – застенчиво откликнулась подруга, скрывая в тени лицо.
– Муж объелся груш... Не скромничай, давай. Паша, ты не смотри, что она такая тихуша... Главное – не теряйся. Бери в оборот, вытряхивай из ракушки. И увидишь, как из тихого омута черти полезут. – Шура бросила мне простыню и, словно бы невзначай, опять поддала мне бедром. – Вот я, например, вся тут... Цвету и пахну... Как утренняя роза... на морозе.
Я покачнулся, но устоял, невольно опершись о стену. И, не соображая, что делаю, лишь по какому-то тайному согласию меж нами, шлепнул хозяйку по стегнам.
– Но-но, – сурово остерегла Шура. – Не балуй, Дедушко Мороз... Ведь подарков не принес? А теперь одерни меня, а то больше замуж не выйду...
Я поддернул за махровое полотенце, и оно едва не свалилось с лядвий.
Это был намек? Иль только показалось? Но ведь Шура ни разу не вспомнила о Зулусе, словно бы они расстались навсегда иль меж ними перед баней состоялся тайный сговор на ящик шампанского, и теперь прелестница с явной усмешкою, играя чарами, обхаживала меня. Подала стакан пива, хребтинку копченого леща в веснушках острого клецка, плотно уселась на лавку, широко разоставя ноги, как бы нарочито распаляя меня. Свеча в склянице то замирала, то вспыхивала вновь, будто стояла на ветру, выхватывала из полумрака меж нами то сочные полураскрытые губы с ядрышками зубов, то голубые слюдяные глаза, утонувшие в обочьях, то кустышки светлых бровок с капельками пота, то густой жгут волос на затылке, стянутый аптечной резинкой... Тени от свечи метались по предбаннику, особым образом выпячивая иль затушевывая лицо женщины, причудливо вылепливая то облик обавницы-временницы, то развязной бабехи в годах, то девицы на выданье, засидевшейся в девках и сейчас томящейся по ухажеру. Сметываясь в мыслях друг к другу, мы на мгновение забыли про подругу, томящуюся на лавке напротив.
– За что пить-то будем? – строго спросила Нина, напоминая о себе.
– Я пью только за любовь... Любовь – она сильнее медведя, – сказала Шура.
– Нет, девушка... Сильная любовь бывает только в сказках, – грустно поправила Нина. – А в жизни как приведется. Как Бог даст... То за козла угодишь, то за зайца.
– Ага, кто бы говорил. Смешная ты, Нинка... Что, опять разводиться решила? Теперь ищи птичьей породы человека, чтобы в пару по небу летать. Вот там тебе и будет сказка. – По разговору я понял, что верховодила хозяйка; она въедливо цеплялась за каждое слово, подкусывала вероломно и постоянно норовила выставить подругу в порченом виде. – Милая, думать надо, когда замуж пехаешься. Читать-то умеешь? Вот, Пашенька... Была моя Нинка в невестах Комаровой, пригласила меня тамадой на свадьбу. Пропили девку, стала Таракановой. Через пять лет звонит: «Шура, я развелась и снова выхожу замуж». Ну, пропили мы бабу. Была Тараканова, стала Блохина. Через пять лет снова звонит, зовет в тамады. Спрашиваю: опять букашкина фамилия? – «Да нет, говорит, была Блохина, стала Мамонтова...» Так, Паша, судьба играет с человеком, а человек играет на трубе... Вот скажи, какие тебе женщины больше нравятся? – спросила Шура напористо. – Худенькие или толстые?
– Всякие... – без раздумий признался я, и, может, для себя открыл правду, потому что по сердцу мне порою бывали всякие девицы, что случайно оказывались возле и давали благосклонный сигнал; де, фарватер свободен, и можешь, дружочек, причаливать.
– Значит, у тебя хороший вкус, и ты здоровый неистраченный человек... Это больные все чего-то ищут... Калибруют, примеряют, чтобы не заразиться, не подавиться. С той – страшно, с этой – шумно... А здоровые мужики – они как щуки. На любую рыбку кидаются. Ой, как жаль, что я занята. Вот бы чуть пораньше. Я бы вас полю-би-ла-а, – шумно вздохнула Шура, так что едва не загасила свечу, встала и потянулась просторным, туго сбитым телом, с хрустом вздела к потолку руки, словно бы всю себя, без потайки, заявляла на подиуме перед штудией. И так замерла. – Пропадает девка, пропадает ни за понюшку табачку... Была бы свободна, я бы тебя, Паша, не отпустила. Я бы тебя, Паша, гам – и скушала бы. Ха-ха-ха! – Шура хищно клацнула зубешками и облизала губы.
– Ну так кто же из нас щука? Хотя я согласен быть плотвичкой. Такие милые губки. Начнете с головы иль с хвоста? Иль сразу целиком.
– Не обижайтесь вы на Шуру. Она плохого вам не хочет. Она любит шутить, – извиняясь за подругу, испуганно вмешалась Нина. У нее был суховатый, но приятный голос. Нина так и сидела, сутулясь, принакрытая банными сумерками, как кисейной фатою, и словно бы пряталась от нас. Горячий лепесток свечи трепетно изгибался в склянке, и в лад ему шевелилась огромная синяя тень, всползая на потолок. – Шура, не шути так, не будь дурой. Что товарищ подумает...
– Мамонтова, я не шучу. Рыбонька моя, шутя можно родить и грешить, но любить надо взаболь... Полюбить – это с избы прыгнуть голой задницей на борону. Хоть раз пробовала? Это очень больно... А грех как орех: раскусил, да сладкое ядрышко в рот... Разжевал – и айн, цвай, драй... Ты вот, подружка моя, была Блохина, а стала вдруг Мамонтова. Это и есть шутка...
«Из нее бы вышла прекрасная натурщица, – вдруг подумал я, не зная куда отвести взгляд, ибо как бы ни прятал глаза, они постояно утыкались в прелестницу-обавницу, нащупывая все новые подробности. – Настоящая русская баба-рожаница из былинного эпоса... Только смотреть и то удовольствие для художника, и это чувство природной цельности невольно перекочует в рисунок... Нет, ее надо рисовать маслом в теплых тонах. Что-то подобное есть у Пластова... Баня, легкий снежок, обнаженная молодуха с ребенком... Там трепетное, душевное, а тут плоть дышит... Ну ладно, я не художник, но пока живой же человек?! Или умер давно и уже труп околетый? Почему так вольно, так игриво Шура ведет себя передо мною с первой минуты, словно бы я нечаянно огрубился когда иль обидел и тем невольно провинился перед женщиной, или многого наобещал, а после обманул, оставил на бобах? И Зулус где-то пропал, замерз на дороге, превратился в култыху».