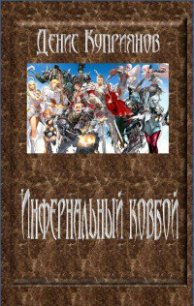Гроб хрустальный. Версия 2.0 - Кузнецов Сергей Юрьевич (читать книги регистрация .txt) 📗
Я смотрю на Оксану, сидящую через проход. Темные волосы прилипли ко лбу, густые брови, синяя куртка из "Детского мира". Емеля нагибается к ней, говорит: Приходи к нам, когда расселимся.
Емеле легко говорить с Оксаной: он в нее не влюблен. Никто не знает, в кого влюблен Емеля. Может – в Марину, весь класс влюблен в Марину Царёву: Вольфсон, Чак, Абрамов… Только я смотрю через проход на Оксану и думаю: никогда я не смогу признаться ей в любви.
Экскурсовод говорит: проезжаем Обводный канал. А там в России где-то есть Ленинград, а в Ленинграде том – Обводный канал, поет Галич на кассете, переписанной у Оксаны еще в восьмом классе.
– А можно про ленинградскую сельдь спросить? – шепчет Чак. – Как у них в Ленинграде с сельдью?
Ленинградская сельдь в консервных банках цвета Невской воды. Иосиф Бродский на Тресковом мысе, генеральская дочь в своей Караганде. Этому городу не грозит безрыбье. Нынче с базы нам сельдь должны завесть, говорили, что ленинградскую. Меня раздражает манера Чака пижонить цитатами из Галича и Бродского, носить их, как фирменные шмотки, показывать всем своим видом: и мы не хуже Горация, "Эрика", мол, берет четыре копии, и одна из них всегда у меня в сумке.
Галич говорил четыре копии, но на самом деле – все шесть. Папиросная бумага, импортная копирка. Иногда я представляю бесконечную геометрическую прогрессию, шесть в энной степени, огромная сеть, покрывающая весь Союз. Каждый раз, когда сажусь за машинку, я представляю себя одной из ячеек этой сети, одним из ее узлов.
Когда я печатаю на машинке – папиросная бумага, импортная копирка – я чувствую: эти стихи и рассказы открывают мне какую-то сокровенную правду о мире, правду, не связанную с политикой и литературой, правду о бесконечном одиночестве, о беззащитности человека перед лицом ужаса, всепроникающего, как государство. И когда я печатаю на машинке – шесть копий, папиросная бумага – я чувствую как этот ужас пульсирует в кончиках пальцев, ударяющих по клавишам, пульсирует, не то входя в меня, не то, напротив, покидая.
Проезжаем мимо дворца Шереметьевых. Экскурсовод не говорит, но я и так знаю: это – знаменитый Фонтанный дом, где вечерняя бродит истома, где Ахматова начала "Поэму без героя". Я прочитал ее летом, мне понравилось. Я даже начал писать подражание, такое описание сюрреалистического бала, но с матшкольными реалиями. Почему-то сейчас помню всего две строчки: А тот, на языке Алгола, жжет сердца людей глаголом. Не Ахматова, конечно, но тоже неплохо. Современно.
Я часто думаю: а вдруг – обыск? Я сижу один дома, шесть копий, импортная копирка – и вздрагиваю от шагов за стеной, жду звонка в дверь. Родителей нет, они не любят, когда я печатаю при них, боятся, когда я занимаюсь Самиздатом. Нет, вообще-то они не против, у отца до сих пор лежат в столе три толстые папки машинописи, даже Нобелевская речь Солженицына, завернутая в "Литературку" со статьей о литературном власовце. Они не против, просто считают: мне еще рано. Надо окончить школу, поступить в институт, получить диплом, а потом уже… Самиздат – это как секс: его никто не запрещает, но о нем не говорят. Он – только для взрослых.
Иногда, глядя на прохожих, я спрашиваю себя: кто из них, подобно мне, вплетен в эту сеть? У кого лежит в портфеле машинопись Мандельштама, ксерокс Оруэлла, томик Солженицына? Поверить в это так же невозможно, как представить: мужчины и женщины, перед тем как завести детей, в самом деле вытворяют все то, что описано в "Камасутре". Я знаю: так оно и есть, но поверить все равно не могу.
Но топот на лестнице… стук сердца… канонада клавиш. Не спрашивай, по ком звонит дверной звонок: он всегда звонит по тебе.
На четверых только два стакана, мы пьем вдвоем из одного. Я вспоминаю старую примету и говорю Оксане: Теперь я буду знать все твои мысли. А она в ответ чуть морщит лоб, будто припоминая, есть ли у нее мысли, которые хотелось бы скрыть. Оксана сидит рядом: густые брови, темные волосы, карие глаза.
Нормальный дождь, обещанный в четверг, идет, однако, в пятницу и среду. Капли влаги висят за окном, мы сидим в номере Абрамова и Емели, пьем "Алигате", бутылка на четверых. На самом деле у нас четыре бутылки (как четыре копии, не преминул бы сказать Чак), они куплены в складчину для церемонии вручения Малой Нобелевской премии. Одну из них мы решили выпить, не дожидаясь Чака и Вольфсона – и нам еще надо будет что-то придумать, чтобы объяснить, куда она делась.
– Скажем – разбилась, – предлагает Емеля.
Бутылка пуста на треть. Я смотрю на Оксану, она сидит ко мне в профиль, темные волосы, густые брови. Почему влюбляешься в одну девочку, а не в другую? Почему именно с ней все оказывается так трудно? Это – как литература: у каждого свое любимое стихотворение, свой любимый поэт. Кто любит Ахматову, кто Мандельштама, кто Галича. Почему? Я не знаю. Принято считать: "физики" всему хотят найти научное объяснение. Похоже, я "лирик" – а может, деление на "физиков" и "лириков" давно устарело.
Бутылка пуста на две трети. Емеля говорит:
– Знаете классный анекдот, почему евреев никто не любит?
– Почему никто не любит? – удивляется Оксана. – Я вот люблю, – и тут же, смутившись, добавляет: – Ну, в смысле, мне все равно, еврей, не еврей…
Но Емеля уже начал:
– … и встает тут старый еврей и говорит: "А не любят нас, потому что мы мало пьем!"
Повторяю: бутылка уже пуста на две трети, поэтому все смеются. Анекдот, однако, не кончается и пока Емеля рассказывает, как евреи решили напиться в складчину, а хитрая Сара посоветовала Абраму (Емеля говорил "Аб'гаму", нарочито картавя, что, при его дикции, в общем-то, не требуется) взять бутылку воды и вылить в общий котел: все равно никто не заметит.
Я смотрю на Оксану. Карие глаза, густые брови. Она сказала: я люблю евреев. Можно ли считать это признанием в любви? думаю я. Ведь Оксана сидела рядом со мной и смотрела на меня. Или, раз уж я четвертинка, мне достается только четверть ее любви?
– И вот самый старый раввин зачерпнул узорным ковшом из чана, сделал глоток и сказал: "Вот за это-то нас и не любят!"
Мы смеемся, Абрамов разливает остатки вина. Мы снова пьем из одного стакана, едва касаясь друг друга. Жаль, примета не работает: глядя на покрасневшее лицо Оксаны, я думаю, что никогда не узнаю ее тайных мыслей. Разве что – спросить напрямую: А что ты имела в виду, когда… Нет, о таком не спрашивают, можно даже не думать.
Я смотрю на Оксану, на ее темные волосы, густые брови, раскрасневшееся лицо – и в этот момент Абрамов кричит: Эврика! Я знаю, чего делать с бутылкой!
Гостиничный номер, шум дождя за окном. Мы сидим вшестером, одни мальчишки, пьем "Алигате", отмечаем вручение Малой Нобелевской премии.
Малую Нобелевскую Академию мы придумали месяц назад. Мы верим: кого-нибудь из нас не минует и большая Нобелевка. Вольфсон даже как-то набрал двадцать копеек на мороженое, занимая деньги "до премии". В ожидании большой премии, присуждаем малую: мы сидим в нашем с Чаком номере, я зачитываю декларацию и объявляю первого лауреата:
– Малую Нобелевскую премию за литературу получает автор истинно народного произведения, великого стихотворного эпоса "Железяка хуева", Алексей Чаковский!
Все кричим "Ура!" и открываем первую бутылку. Передавая из рук в руки, пьем из горлышка – негигиенично и неудобно, слюни попадают внутрь, я все время боюсь поперхнуться. Я не умею пить из горлышка. Я многого еще не умею.
– Дай покажу, – говорит Феликс, отбирая у меня бутылку. – Надо вливать в себя, а не присасываться. Это не минет.
– О, наш Железный, оказывается, специалист по минетам! – оживляется Абрамов. – Может, переименовать его в Голубого?
Феликс аккуратно ставит бутылку и, развернувшись, бьет Абрамова кулаком в грудь. Тот падает на кровать, радостно гогоча: Точно, Феликс – голубой. Голубые, они же модники и мажоры.