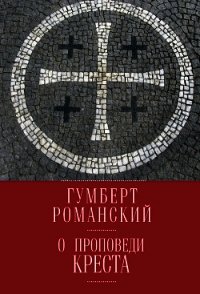Лолита - Набоков Владимир Владимирович (онлайн книга без txt) 📗
13
Воскресный день, после уже описанной субботы, выдался столь же погожий, как предсказывало метеорологическое бюро. Выставив на стул, стоявший за дверью, поднос с остатками моего утреннего завтрака (его полагалось моей доброй квартирохозяйке убрать, когда ей будет удобно), я подкрался к балюстраде площадки в своих потрепаных ночных туфлях (единственное, что есть у меня потрёпанного), прислушался и выяснил следующее.
Был опять скандал. Мистрис Гамильтон сообщила по телефону, что у её дочки «температура». Мистрис Гейз сообщила своей дочке, что, значит, пикник придётся отложить. Пылкая маленькая Гейз сообщила большой холодной Гейзихе, что если так, то она не поедет с нею в церковь. Мать сказала: «Отлично» — и уехала одна.
На площадку я вышел сразу после бритья, с мылом в ушах, всё ещё в белой пижаме с васильковым (не лиловым) узором на спине. Я немедленно стёр мыльную пену, надушил волосы на голове и под мышками, надел фиолетовый шёлковый халат и, нервно напевая себе под нос, отправился вниз в поисках Лолиты.
Хочу, чтобы мои учёные читатели приняли участие в сцене, которую собираюсь снова разыграть; хочу, чтобы они рассмотрели каждую деталь и сами убедились в том, какой осторожностью, каким целомудрием пропитан весь этот мускатно-сладкий эпизод — если к нему отнестись с «беспристрастной симпатией», как выразился в частной беседе со мной мой адвокат. Итак, начнём. Передо мной — нелёгкая задача.
Главное действующее лицо: Гумберт Мурлыка. Время действия: воскресное утро в июне. Место: залиты солнцем гостиная. Реквизит: старая полосатая тахта, иллюстрированные журналы, граммофон, мексиканские безделки (покойный Гарольд Е. Гейз — царствие небесное добряку! — зачал мою душеньку в час сиэсты, в комнате с голубыми стенами, во время свадебного путешествия в Вера Круц, и по всему дому были теперь сувениры, включая Долорес). На ней было в тот день прелестное ситцевое платьице, которое я уже однажды видел, розовое, в тёмно-розовую клетку, с короткими рукавами, с широкой юбкой и тесным лифом, и в завершение цветной композиции, она ярко покрасила губы и держала в пригоршне великолепное, банальное, эдемски-румяное яблоко. Только носочки и шлёпанцы были невыходные. Её белая воскресная сумка лежала брошенная подле граммофона.
Сердце у меня забилось барабанным боем, когда она опустилась на диван рядом со мной (юбка воздушно вздулась, опала) и стала играть глянцевитым плодом. Она кидала его вверх, в солнечную пыль, и ловила его, производя плещущий, полированный, полый звук.
Гумберт Гумберт перехватил яблоко.
«Отдайте!», взмолилась она, показывая мрамористую розовость ладоней. Я возвратил «Золотос Семечко». Она его схватила и укусила, и моё сердце было как снег под тонкой алой кожицей, и с обезьяньей проворностью, столь свойственной этой американской нимфетке, она выхватила у меня журнал, который я машинально раскрыл (жаль, что никто не запечатлел на киноплёнке любопытный узор, вензелеобразную связь наших одновременных или перекрывающих друг друга движений). Держа в одной руке изуродованный плод, нисколько не служивший ей помехой, Лолита стала быстро и бурно листать журнал, ища картинку, которую хотела показать Гумберту. Наконец нашла. Изображая интерес, я так близко придвинул к ней голову, что её волосы коснулись моего виска и голая её рука мимоходом задела мою щёку, когда она запястьем отёрла губы. Из-за мреющей мути, сквозь которую я смотрел на изображённый в журнале снимок, я не сразу реагировал на него, и её коленки нетерпеливо потёрлись друг о дружку и стукнулись. Снимок проступил сквозь туман: известный художник-сюрреалист навзничь на пляже, а рядом с ним, тоже навзничь, гипсовый слепок с Венеры Милосской, наполовину скрытый песком. Надпись гласила: Замечательнейшая за Неделю Фотография. Я молниеносно отнял у неё мерзкий журнал. В следующий миг, делая вид, что пытается им снова овладеть, она вся навалилась на меня. Поймал её за худенькую кисть. Журнал спрыгнул на пол, как спугнутая курица. Лолита вывернулась, отпрянула и оказалась в углу дивана справа от меня. Затем, совершенно запросто, дерзкий ребёнок вытянул ноги через мои колени.
К этому времени я уже был в состоянии возбуждения, граничащего с безумием; но у меня была также и хитрость безумия. По-прежнему сидя на диване, я нашёл способ при помощи целой серии осторожнейших движений пригнать мою замаскированную похоть к её наивным ногам. Было нелегко отвлечь внимание девочки, пока я пристраивался нужным образом. Быстро говоря, отставая от собственного дыхания, нагоняя его, выдумывая внезапную зубную боль, дабы объяснить перерыв в лепете — и неустанно фиксируя внутренним оком маниака свою дальнюю огненную цель, — я украдкой усилил то волшебное трение, которое уничтожало в иллюзорном, если не вещественном, смысле физически неустранимую, но психологически весьма непрочную преграду (ткань пижамы, да полу халата) между тяжестью двух загорелых ног, покоющихся поперёк нижней части моего тела, и скрытой опухолью неудобосказуемой страсти. Среди моего лепетания мне случайно попалось нечто механически поддающееся повторению: я стал декламировать, слегка коверкая их, слова из глупой песенки, бывшей в моде в тот год — О Кармен, Карменситочка, вспомни-ка там,… и гитары, и бары, и фары, тратам — автоматический вздор, возобновлением и искажением которого — то есть особыми чарами косноязычия — я околдовывал мою Кармен и всё время смертельно боялся, что какое-нибудь стихийное бедствие мне вдруг помешает, вдруг удалит с меня золотое бремя, в ощущении которого сосредоточилось всё моё существо, и эта боязнь заставляла меня работать на первых порах слишком поспешно, что не согласовалось с размеренностью сознательного наслаждения. Фанфары и фары, тарабары и бары постепенно перенимались ею: её голосок подхватывал и поправлял перевираемый мною мотив. Она была музыкальна, она была налита яблочной сладостью. Её ноги, протянутые через моё живое лоно, слегка ёрзали; я гладил их. Так полулежала она, развалясь в правом от меня углу дивана, школьница в коротких белых носочках, пожирающая свой незапамятный плод, поющая сквозь его сок, теряющая туфлю, потирающая пятку в сползающем со щиколки носке о кипу старых журналов, нагромождённых слева от меня на диване — и каждое её движение, каждый шарк и колыхание помогали мне скрывать и совершенствовать тайное осязательное взаимоотношение — между чудом и чудовищем, между моим рвущимся зверем и красотой, между моим рвущимся зверем и красотой этого зыбкого тела в этом девственном ситцевом платьице.
Под беглыми кончиками пальцев я ощущал волоски, лёгонько ерошившиеся вдоль её голеней. Я терялся в едком, но здоровом зное, который как летнее марево обвивал Доллиньку Гейз. Ах, пусть останется она так, пусть навеки останется… Но вот, она потянулась, чтобы швырнуть сердцевину истреблённого яблока в камин, причём её молодая тяжесть, её бесстыдные невинные бёдра и круглый задок слегка переместились по отношению к моему напряжённому, полному муки, работающему под шумок лону, и внезапно мои чувства подверглись таинственной перемене. Я перешёл в некую плоскость бытия, где ничто не имело значения, кроме настоя счастья, вскипающего внутри моего тела. То что началось со сладостного растяжения моих сокровенных корней, стало горячим зудом, который теперь достиг состояния совершенной надёжности, уверенности и безопасности — состояния не существующего в каких-либо других областях жизни. Установившееся глубокое, жгучее наслаждение уже было на пути к предельной судороге, так что можно было замедлить ход, дабы продлить блаженство. Реальность Лолиты была благополучно отменена. Подразумеваемое солнце пульсировало в подставных тополях. Мы с ней были одни, как в дивном вымысле. Я смотрел на неё розовую, в золотистой пыли, на неё, существующую только за дымкой подвластного мне счастья, не чующую его и чуждую ему, и солнце играло у неё на губах, и губы её всё ещё, видимо, составляли слова о «карманной Кармене», которые уже не доходили до моего сознания. Теперь всё было готово. Нервы наслаждения были обнажены. Корпускулы Крауза вступали в фазу неистовства. Малейшего нажима достаточно было бы, чтобы разразилась райская буря. Я уже не был Гумберт Густопсовый, грустноглазый дог, охвативший сапог, который сейчас отпихнёт его. Я был выше смехотворных злоключений, я был вне досягаемости кары. В самодельном моём серале я был мощным, сияющим турком, умышленно, свободно, с ясным сознанием свободы, откладывающим то мгновение, когда он изволит совсем овладеть самой молодой, самой хрупкой из своих рабынь. Повисая над краем этой сладострастной бездны (весьма искусное положение физиологического равновесия, которое можно сравнить с некоторыми техническими приёмами в литературе и музыке), я всё повторял за Лолитой случайные, нелепые слова — Кармен, карман, кармин, камин, аминь, — как человек, говорящий и смеющийся во сне, а между тем моя счастливая рука кралась вверх по её солнечной ноге до предела, дозволенного тенью приличия. Накануне она с размаху влетела в громоздкий ларец, стоявший в передней, и теперь я говорил, задыхаясь: «Смотри, смотри, что ты наделала, ах смотри!» — ибо, клянусь, был желтоватый синяк на её прелестной нимфетовой ляжке, которую моя волосатая лапа массировала и медленно обхватывала, — и так как панталончики у неё были самого зачаточного рода, ничто, казалось, не могло помешать моему мускулистому большому пальцу добраться до горячей впадинки её паха — как вот, бывает, щекочешь и ласкаешь похохатывающего ребёнка — вот так и только так, и в ответ со внезапно визгливой ноткой в голосе она воскликнула: «Aх, это пустяк!» и стала корячиться и извиваться, и запрокинула голову, и прикусила влажно блестевшую нижнюю губу, полуотворотившись от меня, и мои стонущие уста, господа присяжные, почти дотронулись до её голой шеи, покаместь я раздавливал об её левую ягодицу последнее содрогание самого длительного восторга, когда-либо испытанного существом человеческим или бесовским.