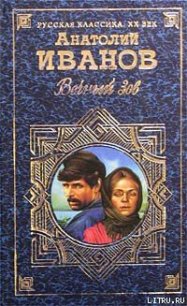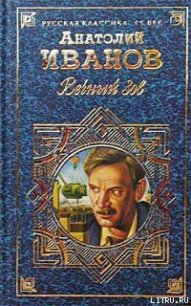Тени исчезают в полдень - Иванов Анатолий Степанович (читать книги полные .TXT) 📗
Наконец Юргин ушел, хлопнув дверью. Пистимея вернулась к печке.
– Ты дашь сегодня позавтракать или нет? – раздраженно спросил Устин. – Или с голоду решила уморить?
Пистимея сидела возле печки, задумчивая, положив маленькие, сморщенные руки на высохшие коленки. Маленькая головка, туго обмотанная черным платком, была глубоко втянута в плечи.
Голос мужа заставил ее вздрогнуть. Она зачем-то принялась разглаживать ладонями юбку на коленях, потом сказала:
– Скоро, скоро… накормлю уж… Устинушка. Приставила уж варево.
– Чего там Илюшка болтал? Что в Ручьевке случилось?
– Дык это… Уваровские собаки докторшу покусали. Эту, Краснову, что уколы приезжала делать.
Об Анне Уваровой, простоявшей чуть не всю ночь на коленях в снегу, Пистимея говорить ничего не стала.
В комнате надолго установилось безмолвие, точно в ней не было ни одной живой души. Лишь тоскливо пело в трубе, да ветер, налетая порывами, дребезжал оконными стеклами.
Пистимея перекрестилась, вздохнула и встала. Она заглянула в печку, затем, не разгибаясь, повернула голову к дверям и так застыла, окаменела – у порога стояла уборщица конторы Наталья Лукина.
– Иди в контору, – сказала Наталья. – Больная тебя зовет.
– Ка… какая еще больная? – Пистимея с трудом выпрямилась. В позвоночнике ее что-то щелкнуло, будто переломилось.
– Да Марфа Кузьмина. Занедужила, говорит, что-то. Об чем-то спросить хочет.
– Она ведь… Приехала с Озерков, что ли, она?
– Зачем… По телефону просит.
Больше ни о чем не спрашивая, Пистимея кинулась на улицу.
В колхозной конторе по случаю воскресенья никого не было, на недомытом полу стоял таз с грязной водой, валялась мокрая тряпка.
Запыхавшаяся от быстрой ходьбы Пистимея чуть не опрокинула это ведро. Еще не успев поднести трубку к уху, она закричала, косясь на дверь, – Наталью она оставила на несколько шагов позади:
– Марфушка? Я слушаю. Ага, я… Чего? Кто просил передать? Дочка Семена Прокудина? А что? Говори громче, щелкает в трубке-то, аж в голове звенит. Что? Фрол… Дорофея Трофимыча… и Семена в мили… О Господи! О Гос..
И Пистимея смолкла, едва вошла Наталья. Поджав губы, она только слушала, уставив стекленеющие глаза на Лукину. Раздевшись, Наталья принялась домывать пол.
А потом вошел в контору Филимон Колесников в наспех накинутом полушубке.
– Что это тут? В чем дело? – спросил он. – Гляжу в окно – вы наперегонки с Пистимеей бегаете.
– Да вон, – указала Наталья мокрой тряпкой на телефон. – Егорки Кузьмина мать, что ли, захворала.
– Ага, ладно, Марфушка, – заговорила наконец в трубку Пистимея осипшим голосом, отворачиваясь от цепкого взгляда Филимона. – Все понятно… Дык ты, значит, эдак сделай: три пучка богородской травки возьми да стебелька четыре подорожника. Ага… а в аптеке березовых почек спроси. И завари травушку, а как закипит, подорожник туда брось да ложку этих почек. И пей на ночь… Ну, все. Разведреет – я навещу тебя. А сейчас вот побегу домой, накормлю Устина – да в молитвенный дом… Помолюсь за тебя.
Повесила трубку и, ни на кого не глядя, пошла из конторы.
– Что там с Марфой? – спросил Устин, едва она показалась в дверях.
– Ничего… Бог милостив. Сейчас, сейчас накормлю тебя! – И заметалась по избе.
Всегда была Пистимея услужлива, но, возможно, никогда она так не суетилась, чтоб угодить мужу. Впрочем, Устин не заметил этой ее торопливости, а вернее – не обратил никакого внимания. Буря за окном, Захар, Демид, больная Марфа, собственная жена – все ему было сейчас безразлично. Ел он в последние дни тоже без всякого интереса и разбора, не ощущая даже вкуса.
Однако сейчас, когда жена собрала на стол, он хлебнул ложку-другую и тупо уставился в тарелку.
– Горчит, что ли, а? – поднял он глаза на жену.
Возле Пистимеи тоже стояла полная тарелка, но она не притрагивалась еще к ней. То резала хлеб, то бегала беспрерывно к шкафу с посудой, к печке. И слова мужа застали ее возле печки.
Пистимея спокойно подошла к своей тарелке, зачерпнула в ложку немного супа, попробовала:
– Верно, чем-то припахивает. Уголек, может, упал какой или щепочка.
– Щепочка?! – переспросил Устин, и в глазах его метнулось что-то нехорошее. Однако он еще хлебнул ложку. – Не-ет, ты у меня попробуй.
– Господи! – всхлипнула Пистимея. – Да ты в уме ли, Устинушка?! Что у тебя на мыслях-то! Недавно молол насчет Варьки что-то… С одной ведь чугунки наливала тебе и себе, ты же видел.
Устин это действительно видел. Но все-таки стукнул кулаком по столу:
– Пробуй, тебе говорят!
Тогда Пистимея вытерла слезы фартуком, переставила его тарелку к себе, а свою пододвинула мужу. И молча начала есть, временами по-прежнему всхлипывая.
Это Устина успокоило. Когда у жены осталось супа полтарелки, он склонился над своей, быстро опростал ее. Съел потом половину курицы, выпил стакан чаю и снова завалился на кровать.
А Пистимея торопливо выскочила в сени, прихватив с собой пустую литровую кружку, оттуда в коровник. Пестрая корова, тяжело отдуваясь, равнодушно жевала свою жвачку. За загородкой глухо постукивали копытцами по деревянному настилу две овцы.
Пистимея легла животом на эту загородку, глубоко засунула в рот два пальца…
Рвало ее долго, но не сильно. Только что съеденный суп выливался под ноги овцам маленькими порциями, пузырясь и застывая на унавоженных досках. Но старуха все пихала и пихала в рот холодные пальцы.
Когда ее начало выворачивать насухую, она, пошатываясь, пробрела с кружкой к корове, присела и начала дергать ее беспалой рукой за соски. Скоро кружка была полной. Почти без передыха она выпила все молоко и снова принялась доить…
А потом опять легла животом на овечью загородку…
Кружку старуха оставила там же, в коровнике. Она ей больше была не нужна.
В избу она вернулась с бидоном керосина. Устин, обливаясь потом (даже борода у него вся смокла и словно прилипла к груди), лежал на спине и тяжело дышал, жадно открывая рот. Он не закричал, увидев жену, хотя силы на то, чтобы крикнуть, у него, пожалуй, еще хватило бы. Он только спросил у нее тоскливо, задыхаясь:
– Зачем же ты… этак-то уж? И за что?
Пистимея не ответила. Не обращая на мужа никакого внимания, она раскрыла сундуки и чемоданы, начала вытряхивать на пол всякое тряпье.
– Ведь я все равно бы сам… Я все обдумывал, как мне лучше… Но зачем… зачем ты… этак-то? – опять проговорил Устин.
И опять Пистимея не ответила.
Она натянула на себя пару теплых штанов, теплую вязаную кофточку. Поверх надела пиджак. Вытащила ни разу не надеванную еще пуховую шаль.
Затем в углу под лавкой отколупала ножом штукатурку, вынула из тайника несколько пачек денег. Пачки эти высыпала в небольшой мешочек с заплечными лямками, а пустой ящичек зачем-то задвинула на прежнее место.
Все это она проделывала не торопясь, однако не позволяя себе ни одного лишнего движения. Глаза ее матово поблескивали, губы все время были сжаты.
Устин корчился на кровати. У него, видимо, палило в груди, он хотел расстегнуть или разорвать ворот рубахи, попытался поднять руку. Но на полпути она опала плетью.
А Пистимея уже разбрызгивала, разливала по всей комнате керосин.
Устин перестал даже корчиться, затих Повернув к жене голову, он смотрел теперь на Пистимею. Глаза его, казалось, выгорали от черного огня.
– Вон ты… как еще… – прохрипел он. И вдруг пронзительно, обезумевшим голосом, в котором слышались и гнев, и протест, и мольба, и жажда жизни, закричал: – Да за что же?! За что?!!
Пистимея стояла возле порога, одетая в новый полушубок, туго подпоясанная Устиновым ремнем, с мешочком в руках.
– Не помощник ты мне теперь, Устинушка, – сказала она спокойно. – Все ветки из Филь… Да чего уж там Филькой прикрываться теперь… Все ветки из того деревца, что я посадила тебе в душу, не только пообламывались – само деревце подгнило. Я хотела недавно полить его да приживить… Но уж мертвому-то что припарки… Ну, да… прощаю тебе на этом пороге все, Устинушка. А мне уж Бог простит.