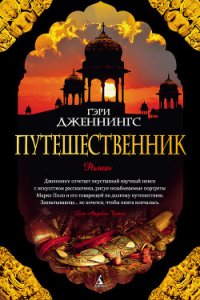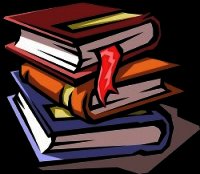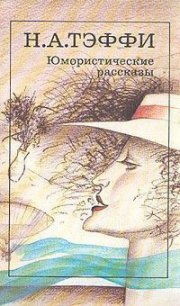Город и сны. Книга прозы - Хазанов Борис (читать книги регистрация .txt) 📗
Помявшись, я ответил, что пытаюсь привести в порядок свое прошлое.
Фальшивое слово: получалось, что я человек «с прошлым».
«Видите ли, у каждого человека рано или поздно возникает желание разобраться в своей жизни, подвести итоги, что ли…» — пробормотал я.
«Это автобиографический роман?»
«Не совсем. В том-то и дело, что я бы хотел покончить раз навсегда с беллетристикой, с вымышленными героями…»
«Я думала, мемуары пишут в старости!»
«Для мемуаров моя жизнь недостаточно богата внешними событиями. Кроме того, события меня не интересуют. Меня интересует, — сказал я, — логика внутреннего развития».
И уже совсем упавшим голосом, чувствуя, что говорю не то, добавил:
«Знаете, писание вообще очень трудная вещь».
Она шла впереди меня по узкой тропинке, помахивая зонтиком; я услышал ее голос:
«Можно я вам сделаю одно признание?»
«Какое признание?» — спросил я испуганно.
«Я тоже писательница. То есть, конечно, не писательница: я пробую. Хотите, как-нибудь прочту?»
«С удовольствием».
«Это вы говорите из вежливости».
«Разумеется», — сказал я.
«Вот видите, я так и знала».
«Можно быть вежливым и в то же время искренним».
«Да? — спросила она удивленно. — У вас есть странная черта».
Она сидела на корточках, подобрав подол, ее коленки, обтянутые белыми чулками, выглядывали из-под платья, жалкие коленки школьницы, круглые женские колени, от того, что она опустилась на корточки, обрисовались ее полудетские бедра, ее тело понемногу оправлялось от первого шока юности, зонтик валялся рядом.
Она что— то разглядывала на земле.
«Какая черта?»
Она встала.
«Вы не говорите „да“ или „нет“. У вас как-то так получается, что и да и нет».
«Что ж… Хм».
«Почему вы так нерешительны?»
«Потому что сама жизнь так устроена. Сама жизнь нерешительна, Роня».
«А по— моему, жизнь требует определенных решений. Во всяком случае, мужчина всегда должен знать, чего он хочет».
«Вы меня не совсем правильно поняли. Конечно, каждому из нас приходится принимать то или другое решение. Хотя, на мой взгляд, это совсем не обязательно. На самом деле никогда не существует одного единственно правильного ответа. Мы живем в мире версий».
«Это для меня слишком сложно».
«Не думаю. Просто вы, как и большинство людей, инстинктивно стараетесь упростить вещи и выбираете из многих версий одну. Это и называется проявить решительность».
«Вы и пишете так же?» — спросила она.
«Как?»
«А вот так: и то, и се, а в результате ни то ни се».
«Если вы имеете в виду мое литературное творчество, то я действительно… сомневаюсь в действительности. Видите, получается дурной каламбур. Я просто хочу сказать, что действительность всегда ненадежна, проблематична: и то, и се, как вы удачно выразились».
«Это все философия. А я говорю о жизни, об этом лесе, о том, что вокруг нас!»
«Я говорю о литературе. Я сомневаюсь, что эту действительность можно описать — во всяком случае, описать однозначно. Это касается самых главных вопросов — как к ним подступиться. Вот в чем дело».
«Что вы называете главными вопросами?»
«Кстати, Роня, — заметил я, поглядывая на верхушки деревьев, — а сколько сейчас времени?»
«Это и есть главный вопрос?» — сказала она, смеясь.
«В некотором смысле да».
«А другие вопросы?»
«Это всегда одни и те же вопросы. Жизнь, смерть. Любовь. Отношения двух людей. Секс».
Она хмыкнула. Я взглянул на нее. Мне показалось, что мы говорим об одном, а думаем о другом — о чем же? Я потерял нить. Почему мы вдруг заговорили об этом?
Последняя фраза была произнесена вслух.
«Вы собирались посвятить меня в тайны творчества…»
«Чепуха, какие там тайны!»
«Нет, все-таки».
«Что — все-таки?»
«Вот вы говорили об игре».
«О какой игре?»
«Не притворяйтесь. Вы прекрасно знаете, что я имею в виду».
«Понятия не имею», — сказал я.
«Перестаньте! Конечно, мы играем. Мы играем самих себя, и в то же время… Например, сейчас мы играем в барышню и кавалера. Конечно, — добавила она, — совсем глупую барышню и солидного, знающего себе цену кавалера».
«Хм, допустим. Что из этого следует?»
«А то следует, что если я барышня и дворянская дочь, то и должна ею оставаться».
Она тряхнула головой, волосы были прекрасные, ничего не скажешь, бегло оглядела свой наряд и подняла на меня глаза, как если бы перед ней стояло зеркало.
«Дворянская дочь, — сказал я. — Вот как? Интересно».
«Да! — отрезала она. — Так что все эти темы, позвольте мне заметить, совершенно не подходят pour une demoiselle de mon a^ge*».
Я развел руками, несколько сбитый с толку.
«Скажите…— небрежно проговорила она, назвав меня по имени и отчеству. Разгладила на руках тонкие перчатки, выпрямила едва заметную грудь и раскрыла над головой зонтик. — Я вам нравлюсь?»
«Вы прелестны, Роня».
«Будем считать этот ответ признаком хорошего воспитания. Скажите это по-французски».
Я развел руками.
«Но ведь вы поняли, что я сказала».
Я кивнул.
«Вы, кажется, лишились речи!»
«Я согласен, Роня, — сказал я, — что все, что я старался вам внушить, совершенно не для ваших ушей».
«Но, с другой стороны, вы сами говорите, что все в жизни так зыбко и неоднозначно… Относится ли это к любви?»
«Разумеется».
«Не будете ли вы так добры пояснить ваши слова?»
«Охотно, — сказал я, — но лучше останемся в пределах литературы».
«Вы сами себе противоречите. Разве литература и жизнь — это…»
«Далеко не одно и то же. Вы сказали, что мы кавалер и барышня. С барышнями не полагается говорить о жизни».
«Хорошо, будем говорить о литературе. Итак?»
Некоторое время мы шли молча, у меня было чувство, что нечто начавшееся между нами растеклось, ушло в ничего не значащие слова — или они что-то значили?
«Видите ли, — заговорил я наконец, — в разные эпохи любовь описывалась по-разному. Что касается нашего времени, то приходится констатировать, что описание попросту невозможно! Описывать чувства? Это делалось тысячи раз».
«Но каждый человек открывает любовь заново».
«Может быть. Но слова все те же. И фраза, которую вы только что произнесли, тоже произносилась уже тысячи раз. Может быть, этим и объясняется то, что писатели переступили, так сказать, порог спальни. Хватит, сказали они себе, рассуждать, вернемся к действительности. Только и здесь они ничего нового не открыли».
«Видите, я похвалила вашу воспитанность, а вы снова».
«Что снова?»
«Опять заговорили о том, что не полагается слушать благовоспитанным девицам… Знаете что, — проговорила она, — в другой раз как-нибудь. А сейчас расстанемся. Неудобно, если нас увидят вдвоем в лесу».
За деревьями уже виднелась усадьба.
Я потерял счет дням. До сих пор я считал это изобретением беллетристов, но это произошло на самом деле. Полдень года длился и длился, и, право же, не все ли равно: какое сегодня число, какой день недели? То и дело я забывал рисовать палочки и в конце концов забросил календарь. Я знал, что лето в полном разгаре и еще долго короткие ночи будут чередоваться с долгими знойными днями. По-прежнему утром, когда я выходил на крыльцо из прохладных сеней, сверкало солнце позади моего дома, кособокая тень медленно укорачивалась на белой от пыли дороге. Все цвело, млело и увядало под пылающим небом. Целыми днями я валялся полуголый в огороде, раздумывая над своим трудом, и вел дневник. Этот дневник, который всегда лежал под рукой на подстилке, был моим изобретением, если угодно, это был компромисс: устав чертить завитушки, я решил, что мои сомнения могут быть плодотворны, если доверить их бумаге, и самый рассказ о том, как я пытаюсь взяться за дело, есть часть моего дела. Словом, я решил вести дневник своей нерешительности: вместо того чтобы писать, я писал о том, как я буду писать, или, вернее, о том, как не следует писать. С замиранием сердца я думал о том, что нашел выход, ведь главное — не правда ли? — это копить написанные страницы. Я вспомнил один старый замысел: несколько лет я был увлечен проектом сочинить некий антироман — книгу о том, как не удается написать роман. Сюжет есть, все есть, а роман не получается; это и есть сюжет.