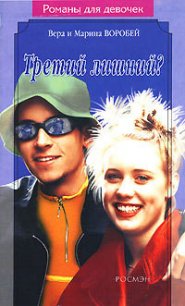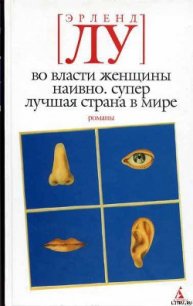Лучшая страна в мире - Лу Эрленд (читаем бесплатно книги полностью .TXT) 📗
— Ты это всем говоришь? — спрашиваю я. — Ты всех просишь ездить поосторожней?
Она отрицательно мотает головой:
— Очень мало кого. Почти что никого.
Очень редко когда прошу.
— Но меня ты же попросила ездить поосторожней?
— Да.
Попросила меня и помнит об этом. Драматическое признание. Это звучит драматически. Она попросила меня ездить поосторожней, и признает это, и помнит. Она попросила ездить осторожно, и я ехал осторожнее, чем всегда. Ей не все равно, и мне не все равно, что ей не все равно, и вследствие этого между нами возникли определенные отношения, и вода хлынула каскадом, как только я признался себе, что между нами возникли отношения, какие-никакие, но ведь отношения, и все пространство заполнилось вдруг водой, меня охватывает паника, меня надо спасать, и она меня спасет, потому что она умеет плавать и у нее есть такой продолговатый оранжевый спасательный круг, которым пользуется береговая охрана в Калифорнии, чтобы спасать людей, а я уже потерял сознание, и последнее, что я запомнил, — это как меня подхватили ее сильные руки, а я такой беспомощный и весь мокрый, как мышь, как бывает «Афтенпостен» у меры по утрам, я — слабый, мокрый и обессилевший от испуга, а она такая уверенная, и сухая, и здравомыслящая, и она меня спасает. По-настоящему все должно было бы случиться наоборот, это я должен был быть сухим и здравомыслящим, брошюроподобным, а она — мокрой, бестолковой и перепуганной, но все есть как есть и не может быть иначе, поскольку что есть, то есть, а раз есть, то не может одновременно не быть в линейном мире, который в графическом выражении строится слева направо? Об этом и думать нечего, поскольку это невозможно. Сейчас мы сосредоточимся на том, что возможно, а то, что невозможно, рассмотрим лучше в другой раз. Если отвлечься от лишнего, то сухие факты говорят, что между нами образовались своего рода отношения, что вода подымается и я охвачен паникой, потому что с водой у меня напряженные отношения, и отношения — это вода, вода их размывает, с течем тем времени, и время — тоже вода, а вовсе не деньги, как многие думают, с деньгами время не имеет ничего общего, зато с водой имеет, а у меня нет времени затевать какие-то отношения, потому что мне надо писать о Финляндии, об этой прекрасной стране, о которой я ничегошеньки не знаю, но которая, по моему предположению, повсеместно охвачена мобильной телефонной связью, и я ведь одинокий человек, я сам выбрал одиночество, но если ей не все равно и мне не все равно, что ей не все равно, значит, между нами есть отношения — хотя для них нет ни времени, ни повода, они есть, и она спасает меня от водной пучины, сильной своей рукой — временно, как нужно отмстить, — потому что никого нельзя спасти раз и навсегда, можно только купить отсрочку, под конец вода все равно останется победителем, но на этот раз она спасает меня, кто бы она ни была.
Я лежу в доме на диване, в задней комнатке домика на краю автомобильной площадки; должно быть, я немного поспал; может быть, свалился на пол, — не помню, как и что случилось, но, как бы там ни было, это говорит в мою пользу, думаю я; со мной редко случается что-то такое, что говорило бы в мою пользу, так что непонятно, с какой стати я тут лежу на чужом диване, в чужой комнате, не в состоянии вспомнить, что такое со мной случилось, говорящее в мою пользу. Очевидно, я потерял лицо, думаю я; если так, то хорошо, что я не японец или не финн, иначе я бы, наверное, пустил себе пулю в лоб, как только проснулся; даже представить невозможно, что вот я потерял лицо, не глядя вытащил пистолет и прострелил себе голову; но я-то норвежец; мы, норвежцы, тоже не любим терять лицо, но все же не принимаем это так близко к сердцу, как восточные народы, нам это не нравится, но мы от этого не стреляемся, мы только замыкаемся в себе и отправляемся в одиночестве бродить по лесу, иногда мы так бродим несколько дней, и все-таки это лучше, чем застрелиться, думаю я. Сейчас надо встать и уйти в лес, надо переходить случившееся, избыть в ходьбе унижение, мне надо переходить потерю лица; я пытаюсь встать и тут замечаю, что кто-то укрыл шерстяным одеялом, кто-то обо мне позаботился и незаметно укрыл одеялом; я вылезаю из-под одеяла и откладываю его в сторону, начинаю вставать, но на меня нахлынула такая усталость, а тут входит она, та самая, кто бы она ни была, и спрашивает, проснулся ли я. Да, проснулся; я тут, должно быть, немного вздремнул, говорю я. Да, ты поспал, говорит она. Это, наверное, оттого, что я провел ночь в лесу. Конечно оттого, говорит она. Но я подумал, что мне пора идти, говорю я; но она, кажется, не согласна, что мне пора; она говорит, чтобы я еще немножко полежал, и я тоже подумал, почему бы, правда, не полежать; раз она говорит, чтобы я еще полежал, наверное, она права; и она снова уходит, потому что там кто-то пришел забирать свою машину и ей надо набрать номер его машины и выдать ему жетон, а я пока уж лучше полежу. В лесу-то я и раньше бывал, лес я достаточно повидал, так что лучше я полежу и повспоминаю, как я раньше ходил в лес; иногда я подолгу бродил в лесу, ходил в дальние походы, но лучше так, чем стреляться, подумалось мне снова, и гораздо лучше, чем втыкать себе в живот нож и потом его поворачивать; это поворачивание ножа вызвало у меня, как я заметил, особенно неприятное ощущение. Как будто мало было пырнуть себя ножом! Так нет же, этим японцам — вот ненормальные! — требуется еще, чтобы этим ножом как следует пошуровали туда и сюда.
Лежание на диване в конторе дорожно-транспортного управления означает перемену; для меня это перемена. Очень заметная перемена, можно сказать. Нормально для меня было бы сидеть сейчас дома и писать брошюру, писать про Финляндию; что-то я совсем забыл про Финляндию, а именно Финляндия должна бы сейчас занимать мои мысли. Прошло уже несколько часов с тех пор, как я в последний раз вспоминал про Финляндию, а мне следовало бы сидеть дома и тюкать по клавиатуре, а я вместо этого лежу на диване в конторе дорожно-транспортного управления и, кажется, уже опять засыпаю, я то сплю, то просыпаюсь, точно в бреду, и вместо того, чтобы думать о Финляндии, думаю об этой женщине, о той незнакомой женщине, которая меня уложила на диван и прикрыла шерстяным одеялом, потому что кто же еще, как не она, меня уложил, думаю я, вряд ли это сделал ее коллега, вредный курилка, который вчера хотел меня обслужить, откуда иначе одеяло и все такое, за этим стоит не кто иной, как она, а я даже не знаю ее имени; тут я немножко пофантазировал о ней, лежа на диване, это же неизбежно, не в смысле сексуальных фантазий, сексуальные тут совершенно ни при чем, секс ведь текуч, а я фантазирую о том, кто она такая; у нее темные волосы, и я называю ее Мерседес, потому что если уж суждено завязаться отношениям, то мне хотелось бы, чтобы ее звали Мерседес и чтобы ее предки происходили из дальних стран, пожалуй даже из Южной Америки, а ее назвали Мерседес, потому что ее отец любит машины, он и ее приучил любить машины, поэтому она и стала работать в дорожно-транспортном управлении, на коммунальной площадке для брошенных автомобилей, где можно видеть много разных машин, и набирать на клавиатуре автомобильные номера, и выдавать жетоны, и ведь это — отношения, а отношения текучи, но уж коли нельзя обойтись без текучки, то лучше, чтобы они завязывались с такой женщиной, которую зовут Мерседес и которая как можно сильнее отличалась бы от меня: у нее, например, должна быть большая семья, которая о ней заботится, куча отцов, и матерей, и племянников, и дядюшек, и тетушек, и я стану членом этой семьи, так что они не дочь потеряют, а приобретут еще одного сына, а потом будут потрясающие совместные трапезы и сплошной магический реализм с утра и до ночи.
Когда я снова проснулся, она сидела на стуле возле дивана. Ну вот ты и проснулся, говорит она, как раз вовремя; я кончила работу и могу уходить, так что тебе тоже пора идти, и вот тебе жетон. Она кладет жетон на стол, по сама не встает, давая мне время проснуться и сообразить, что к чему. Похоже, я проспал целый день, говорю я. Наверное, ты очень устал, говорит она. Это потому что все течет, говорю я. А сегодня утром чаша — та самая чаша, о которой мы всегда вспоминаем, — переполнилась, а я пытаюсь остановить поток, а это нельзя делать безнаказанно, поэтому я устал, говорю я. Понимаю, говорит она, но я не думаю, что она меня поняла, просто так принято говорить, это расхожая фраза, которой мы бросаемся походя каждый день, — мы говорим, что понимаем, тогда как в действительности ничего не поняли, а зачастую нам все настолько неинтересно, что мы и не хотим ничего понимать, а говорим, что понимаем, а на деле это ложь, не я один прибегаю ко лжи, все так поступают, например когда говорят, что понимают, хотя на самом деле ничего не понимаем, вот и она только что это сказала. Что ты понимаешь? — спрашиваю я. Я понимаю, что ты устаешь оттого, что текучка захлестывает, говорит она, я тоже устаю оттого, что захлестывает. А разве она захлестывает? — спрашиваю я. В этом-то весь вопрос, потому что если она не захлестывает, то очень легко сказать, что я, дескать, понимаю, как другие устают от текучки, но если она захлестывает, то захлестывает, и тогда человек сам от нее устает; так как же — есть она или нет? Конечно же есть, говорит она. Немножко течет или захлестывает? — спрашиваю я. Довольно-таки сильно захлестывает, говорит она. Чертовски сильно хлещет? — спрашиваю я. Сейчас как раз чертовски сильно, говорит она. Так и хлещет сейчас, чертовски хлещет, но я надеюсь, что когда-нибудь этому наступит конец. Никогда этому не будет конца, говорю я, потому что текучесть — основное состояние всех вещей, их первооснова, потому что для природы естественным является текучий баланс, но только не для нас, не для человека, говорю я; мы приучили себя говорить, что нас радуют перемены, для того чтобы не захлебнуться, мы сами себя пытаемся обмануть, говоря, что перемены нас радуют, тогда как на самом деле они нас совсем не радуют; изменения изменениям рознь, говорит на это она, кто бы она пи была, бывают хорошие изменения и бывают плохие, точно так же как разлив бывает хороший и бывает плохой, задача в том, чтобы попасть в хорошую струю, говорит она; надо только попасть в хорошую струю, повторяет она, зачем же бояться хорошего, правда? Я не понимаю, о чем она говорит, и меня опять одолевает усталость. Хороший разлив — — плохой разлив, какая-то там струя, о чем это? — думаю я, сидя на диване в конторе дорожно-транспортного ведомства. Поток есть поток, и он несет изменения, а в изменениях нет ничего хорошего, это всегда плохо, рассуждаю я с глупой категоричностыо, потому что она задела меня за живое. И почему это она, скажите на милость, вдруг решила, что потоп когда-нибудь прекратится?