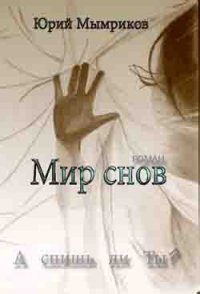Улица Грановского, 2 - Полухин Юрий Дмитриевич (читаем книги онлайн без регистрации TXT) 📗
Так шли годы. Время от времени Панин клал его на обследования в свою клинику. У больного никаких изменений с памятью не происходило ни в худшую, ни в лучшую сторону. Но сердце, разрушенное эпилепсией, все больше сдавало, хотя припадки, как и обещали нейрохирурги, прекратились совершенно.
Однажды, разыскивая Панина в клинике, Надежда Сергеевна забрела в лабораторные помещения и увидела вольер с белыми мышами. В нем был оборудован из крашеных фанерок лабиринт, в одном конце которого стояло блюдце с едой. В углу – «беличье колесо». Мыши были какие-то странные. Чистенькие, пушистые, они нет-нет да нюхали воздух и, должно быть, слыша запах еды, устремлялись к лабиринту, но тут же останавливались, утыкаясь носом в какую-нибудь попутную соринку или трещинку в полу, бесконечно обнюхивали ее со всех сторон, не просто тщательно – каждый раз будто б наново, возбужденно.
– Что это они? – спросила растерянно Надежда Сергеевна у лаборанта, молодого белесого паренька, который, поглядывая на часы, что-то записывал в тетрадь.
– Они гиппокампэктомированные, – произнес он скучно.
– Что-что?
– Соперирован у них в обоих полушариях гиппокамп, такая долька в мозгу, у висков. И вот – видите? – голодные, а никак к еде не добегут. По дороге их любой пустяк отвлекает, – он рассмеялся. – Сумасшедшее совершенно любопытство! Хуже женского. Сколько ни нюхай соричку, она все – новая. По науке это называется – неугасимый ориентировочный рефлекс.
И тут Надежда Сергеевна вспомнила, как вчера вечером они с мужем смотрели телевизор. Шла «Свадьба Кречинского». Михаилу было интересно смотреть. Но в перерыве пустили программу «Время», а когда началось второе действие, он уже не помнил, о чем шла речь в первом, никак не мог понять подспудную логику реплик, не узнавал даже действующих лиц и, раздраженный, выключил телевизор, долго ходил по комнате.
Она гладила белье и спросила механически:
– Тебе скучно, Михаил?
Он усмехнулся нехорошо как-то, ответил:
– Мне теперь не бывает скучно.
Занятая делом, она не придала значения его фразе.
И только сейчас, глядя на юрких симпатичных зверюшек, потерявших себя в двухметровом пространстве вольеры, поняла всю бестактность вчерашнего своего вопроса и вдруг подумала: «Значит, и он, как… эти?..»
– Или вот еще, смотрите, – сказал лаборант и, поймав мышонка, посадил его в «беличье колесо». Тот побежал, мелькая пухлыми белыми лапками, колесо неторопливо закрутилось. – Видите?.. Нормальная реакция – бежать быстрей, узнать: что будет? Или выпрыгнуть. А у этих, – он пренебрежительно махнул рукой, – рефлекс новизны, или, как Павлов говорил, рефлекс «что такое?» – отсутствует начисто. Вернее, раз возникнув, он уже не гасится. Новое не становится старым…
«Всю жизнь бежать размеренно в этом беличьем колесе?.. Не выпрыгнуть!..»
Лаборант что-то еще говорил, но она, не слушая его, быстро вышла из комнаты и через весь коридор чуть не бегом – из клиники. Панина она уж не стала искать.
А увидев через несколько дней, о лаборатории не расспрашивала, ей казалось теперь – лучше знать меньше.
Эксперименты, на которые натолкнул Панина случай с Михаилом Таневым, действительно, не обещали для больного ничего утешительного. Все животные, у которых был соперирован гиппокамп в обоих полушариях мозга, абсолютно теряли способность ориентироваться в незнакомой обстановке, приобретать новые условные рефлексы, хотя сохраняли при этом все свои прежние навыки. Иначе вели себя те зверьки, у которых была соперирована лишь одна из височных долей мозга: они не многим отличались от здоровых, контрольных.
Естественно было предположить, что и у Танева отсутствует не только соперированный гиппокамп правого полушария, но и левосторонний – разрушен фронтовой травмой и припадками эпилепсии. Во время обследований врачей обмануло отсутствие болей в левом виске. Но прекратились они лишь потому, что нервные клетки пораженной части мозга к тому времени полностью погибли.
Когда несколько лет спустя Танев умер после трех подряд инфарктов миокарда и было сделано анатомическое вскрытие черепа, так оно все и оказалось.
Физиологи давно уже писали о двух видах памяти, присущих человеку, – кратковременной (та, что необходима лишь в повседневной жизни, ненадолго: запомнить для определенной цели, чтобы, достигнув ее, забыть) и долговременной (та, что нужна человеку на всю жизнь).
Панин в своей книге доказывал, что следы долговременной памяти, по-видимому, хранятся в коре больших полушарий мозга, не затронутых болезнью и операциями у Танева. А гиппокамп как раз и является в сложной структуре мозга тем устройством, которое сличает информацию, все время поступающую из внешнего мира, с той, которая уже положена в «хранилище» надолго.
А сличив, отбирает из всего этого потока «новостей«то, что можно отбросить сразу, что нужно запомнить лишь на определенное время, а что – навсегда. Только через гиппокамп информация и может поступать в кору больших полушарий.
Панин сравнивал эту часть мозга со сверхмощной вычислительной машиной, которая способна ежесекундно перерабатывать почти невероятное множество сигналов, называл гиппокамп «компоратором».
Мне это хорошо запомнилось, потому что в те годы такие кибернетические термины употреблялись в печати лишь с уничижительными эпитетами, да и о самой памяти физиологи предпочитали не рассуждать – говорили обычно об условных рефлексах, по Павлову.
Небольшая книга Панина была замечена не только в кругах научных. В одной из центральных газет появилась хлесткая статья под заголовком – «Скачки на мели». Дело в том, что в переводе с латинского «гиппокамп» означает «морской конек»: они похожи по очертаниям своим, таинственная эта часть мозга и изящное морское животное. Их сходство и обыгрывалось в статье.
Панина ругали за «беллетристические выдумки», «поиски сенсаций». В статье отстаивалась традиционная точка зрения физиологов, в корне противоречащая панинской. Я не запомнил точно, чем именно. Кажется, гиппокамп назывался «субстратом эмоций» – в противовес мысли, памяти; что-то в этом роде.
Насколько мне известно, лишь в последнее время в науке приняли теорию Панина, которую он начал отстаивать много лет назад.
А книга его о Таневе была написана действительно не без литературного блеска; не зря, наверно, многие ее эпизоды мне памятны до сих пор. В том числе – финальный.
На санитарной машине Панин и Надежда Сергеевна отвозили Танева после очередных обследований домой.
Прошло пять лет после роковой операции, уже случился первый инфаркт. Танев был слаб, но лежать в машине не захотел, сказал, что скучает без московских улиц.
Панин разрешил ему сесть рядом с шофером и, как о само собой разумеющемся, попросил показывать дорогу домой. Шофер, молодой парень, выросший в деревне Дегунино, которая лишь недавно стала частью Москвы, плохо знал город.
Танев охотно командовал: – Тут направо… У светофора налево – и прямо!..
Поначалу они ехали правильно. Но в центре Танев вдруг попросил повернуть на Арбат. Панин взглянул на Надежду Сергеевну. Ее лицо было просто усталым, и Панин промолчал. В конце концов, на проспект Вернадского можно было попасть и так – через Киевский вокзал, Воробьевы горы… Но перед тем, как выехать на Садовую, Танев сказал:
– Здесь – направо.
Панин не мог понять, почему – направо, и снова взглянул на Надежду Сергеевну. В голубых ее глазах скользнула усмешка. Но она и тут не произнесла ни слова.
Когда минули площадь Восстания, Танев опять скомандовал – «направо», и они поехали по улице Алексея Толстого. Танев, вглядываясь в желтые особняки с высокими впалыми окнами, попросил сбавить ход и, наконец, сказал успокоенно:
– Здесь, у ворот. Вот мы и дома.
Машина остановилась. И только тут Панин вспомнил, что раньше, пять лет назад, подопечные его жили на этой улице. Своего нового дома Танев не помнил.
Надежда Сергеевна сидела молча, не двигаясь, и смотрела прямо перед собой. Но и по этой напряженной позе ее Панин понял: невольного этого эксперимента делать не следовало.