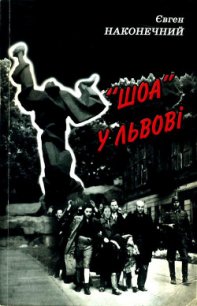Что-то в дожде - Левандовский Борис (лучшие бесплатные книги .txt) 📗
Совсем нереальной эту картину делало то, что все остальные обитатели палаты усердно изображали глубокий безмятежный сон, хотя, конечно, ни один не спал. Но самым худшим было, как они это изображали. Как цирковые собачки.
Услышав мои шаги, напарница Кобылы повернула голову в мою сторону. Мальчишка, – о нем я знал лишь то, что он был направлен из одного интерната с близнецами-сиротами, – продолжал глухо выть сквозь мокрую тряпку, явно ни черта не замечая вокруг и бессмысленно уставившись перед собой. Чуть погодя наши ребята восполнили пробелы в полном понимании, что же я тогда наблюдал. Иногда в чем-то провинившимся «фуфлыжникам» «стервы» запрещали ходить в туалет во время «тихого часа», который длился по сути два часа, и если кто-то не выдерживал, то наказанием было…
Теперь они обе смотрели на меня. Секунд десять (хотя на самом деле трудно судить, сколько успело пройти времени) тянулось молчание, нарушаемое лишь сдавленным скулежом бедолаги, заткнутого собственными обсосанными трусами.
Меня они никогда не трогали даже за шалости, изредка могли прикрикнуть, хотя я был одним из самых младших в санатории детей. Как я уже говорил, моя двоюродная сестра Алла была подругой и одноклассницей дочери директрисы Шалимовой. Я ни разу не обмолвился об этом кому-нибудь в «Спутнике» (да мне и в голову не приходило хвастаться), но такие новости, похоже, обладают способностью доходить до ведома тех, кто может в них оказаться заинтересован. И не в последнюю очередь эти суки, – использовавшие любую шалость интернатовцев (если таковой считать и потребность ходить в туалет) как повод для произвола. В отличие от всех остальных, за них некому было вступиться, вот в чем дело. А сукам, я думаю… нет, уверен, это чертовски нравилось, – могу утверждать, потому что видел их глаза. Не помню, присутствовал ли в корпусе во время экзекуций кто-нибудь из врачей, но во вкус они входили, бывало, настолько, что при нас действовали совершенно открыто.
И тогда, в пятницу, нисколько не смутились моим появлением, – просто молча смотрели и все, пока я не вспомнил о своих насущных делах. «Стервы» будто заранее, по опыту, были убеждены, что это не выйдет за пределы нашего мирка. Не знаю, имело ли то что-то общее с причинами, почему Дима никогда не просил меня хранить в секрете его раннюю привычку курить. Наверно, своим блядским нутром чуяли. Один Бог ведает, почему все остальные, и я в том числе, поступали именно так. Детство умеет хранить тайны, неподвластные памяти.
Так вот, Шкелет. Он не был ни интернатовцем, ни совсем уж малявкой, но и зарываться со «стервами», особенно в первый день (для них-то, как и для большинства из нас, он все еще оставался новеньким), точно не стоило. Обычно «стервы» никому не позволяли в свое дежурство звонить по телефону из кабинета врача, если хозяйка отсутствовала. Но отец Шкелета был какой-то там шишкой в каком-то управлении у себя в области, и Шкелет, видимо, по привычке решил, что такое говеное непотребство не про него, – ему нужно позвонить домой, и все тут.
Поэтому, когда одна из «стерв» вытурила его из кабинета, Шкелет только обозлился и повторил попытку через полчаса. Затем снова. И снова. Несколько ребят и даже Ромка, обычно молчаливый, пытались его успокоить, но Шкелет, движимый неким фанатическим упрямством, продолжал лезть на рожон. В конце концов, «стервы» угомонили его по-своему: когда тот решил ускользнуть на улицу, чтобы позвонить из другого места, у него отобрали всю одежду и заставили лечь в постель перед самым началом обеда. Автоматически Шкелет обеда лишался.
Его возмущенные, но почти неразборчивые вопли достигали даже в столовую, смеша детей и заставляя хмуриться пожилую санитарку, сервировавшую наши столы («стервы», у которых она находилась в формальном подчинении, сделали ей довольно грубое внушение – про обед новенький может забыть). Когда мы вернулись в палату, то застали голого Шкелета, скачущего на кровати, как павиан перед случкой.
– Глупые шуки! – орал он и, должно быть, изображая Джими Хендрикса, «брынькал», словно по гитарным струнам, по своему маленькому болтающемуся пенису. – Шуки-шуки-шуки!..
Мы сперва остолбенели, а затем все вместе грохнули со смеху. Я оказался как раз между Игорем и Андреем.
– Или у него не все дома, – заметил Андрей, – или он собирается податься в гитаристы-похуисты.
– А мой дед говорил, что из маленького долбоеба может получиться только долбоеб большой.
– Что такое долбоеб? – спросил я, перекрикивая общий гомон, ибо в семь лет все дети любознательны, а я не был исключением. Игорь даже, кажется, слегка испортил воздух, согнувшись пополам.
А Шкелет и рад был стараться:
– Шука! – вопил он, подскакивая на кроватных пружинах. – Ошобенно та!.. Зу-баш-та-я!.. Шука-шука-шука!
Да нет, какого хрена, я уже не нуждался в толковании нового слова. Оставалось разве что обсудить некоторые нюансы с Димой. С «гитаристами-похуистами» тоже, впрочем, пока не все было ясно.
– ЗУ! БАШ! ТА! Я!
– Это ты обо мне? – за общим весельем никто не заметил, как в палате возникла Кобыла.
А Шкелет так вообще понял это последним, – его кровать стояла на одной стороне с дверью. Тут же нырнул под одеяло, весь заливаясь краской стыда, пробежал глазами по каждому из нас… и вдруг разревелся.
– Отлично! – сказала «зубаштая штерва», подходя к его кровати с блуждающей улыбкой. – Думаю, девочки тоже не откажутся от маленького представления.
Она одним рывком сорвала одеяло с Шкелета, ухватила за руку и силой поволокла к двери.
– Не-ет! Пушти!.. Пушти-и!.. – завопил тот, когда до его извилин наконец дошел смысл происходящего. – Пожалушта… НЕ НАДО!
От некоторых ребят я слышал, что у «стерв» существовал особенный тип наказания, – когда провинившихся, в том числе и девочек, раздевая догола, отправляли на всю ночь в палату к противоположному полу. Но не верил в это даже после того, как увидел в пятницу мокрые трусы, торчавшие изо рта «фуфлыжника». Теперь-то я был вынужден изменить свое мнение.
Смеяться нам дружно расхотелось. Шкелет дергался, сучил ногами и извивался всем своим тощим цыплячьим телом, но, было видно, еще надеялся, что его попугают и отпустят. Надеялся примерно до порога палаты. Затем, оказавшись уже в коридоре, сразу весь сник и побледнел, покорно следуя за медсестрой. Высыпавшие в коридор девчонки визжали и хлопали в ладоши, – особенно когда Нона одернула в сторону руку, которой он прикрывал свой еще по-детски крошечный «стручок».
Назад Шкелет вернулся уже сам. И до ночи пролежал в постели, укрывшись с головой, ни с кем не разговаривая (да мы, по правде, не слишком и приставали) и даже не вставая поесть. Так, словно умер.
Той ночью всем худо спалось, но мне, пожалуй, беспокойнее всех. Под утро, в очередной раз открыв глаза и поняв, что больше не усну, я встал и на цыпочках подошел к окну на торцевой стороне палаты, где стоял долго-долго…
Снаружи лил беспрерывный дождь, то монотонно шепчущий, то сбиваемый порывами ветра, то внезапно замирающий на минуту, чтобы так же внезапно усилиться…
Приходи… приходи, когда снова пойдет дождь…
Никто не удивился, когда на следующий день родители увезли Шкелета домой, закатив перед тем грандиозный скандал. Медсестру, верховодившую в тандеме «стерв», которую мы прозвали Кобылой из-за длинных зубов, сразу уволили; другую – перевели во взрослое отделение. Больше ни одну из них мы не видели. Наверное, кому-то повезло. Благодаря мальчишке, о котором ничего не было известно, кроме его неспособности выговаривать «с», о котором мы так ничего и не узнали.
До меня только в последние дни пребывания в «Спутнике» окончательно дошло, что никто из нас не был из полной семьи. Точнее, ни у кого не было отца. Словно какая-то неизвестная сила определяла той осенью (а может, и не только той), кому уготовано место среди нас. А Шкелет по какому-то недосмотру нарушивший данное правило, будто служил этому подтверждением. Странно, ведь я до сих пор чувствую, что все именно так.