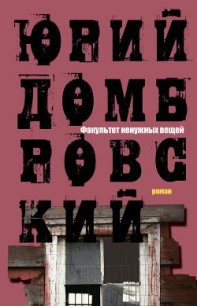Хранитель древностей - Домбровский Юрий Осипович (книги хорошего качества .txt) 📗
А раскрашенные гравюры Бюффона! Это был преудивительный человек, этот Бюффон – натуралист, путешественник, придворный остроумец, гениальный стилист и кавалер многих орденов. И это был еще человек, который вдруг захотел принять на себя обязанность Ноя. Он проинвентаризовал все живое – всех чистых и нечистых, и сделал это со всем блеском в томах, переплетенных в бурую кожу и залитых золотом.
Конечно, современным зоологам нечего делать с этой горой книг, но зато какие там гравюры! Разве можно равнять с ними рисунки иллюстраторов Брема? И те были мастерами первого класса. Каких павлинов они, например, рисовали – великолепных, блестящих, распахнутых, как гигантский веер! Как умели они передать мягкость пуха райской птицы, мельчайшие чешуйки на крыльях колибри, светоносность, изумруд и бронзу оперения зимородка! Они вырисовывали каждое перышко, схватывали свечение раковины, блеск пера, лоск шерсти, тусклый желтый огонь глаз зверя. Но поздно, слишком поздно они пришли со своими кисточками. За сто лет прошло удивление, выдохся восторг первооткрывателей и остались на их долю только верность рисунка, твердость руки, зоркость глаза. И сразу же их великолепные картинки превратились в олеографии. Все удивительное, неповторимое, сказочное ушло из их рисунков безвозвратно.
Кто хочет вступить вместе с Робинзоном на его необитаемый остров, кто хочет полюбить Пятницу, пусть отыскивает в музеях и библиотеках старинные альбомы, листает их голубоватые страницы, всматривается в точные и четкие зарисовки! Только там найдешь портреты невиданных людей, зарисовки с еще неизвестных животных. И не в мастерстве, конечно, дело. У рисовальщика была одна задача – дать точный документ, не нарисовать, а запротоколировать. Но разве не чувствуется, когда смотришь на эти необычайные линии, изгибы и формы, дрожь, которая вот-вот охватит карандаш художника? Вот, например, гравюра в одном из томов Бюффона – птица-носорог. Она чудовищна, огромна, зловеща – этакий тропический черный рогатый ворон. Художник был скрупулезен, он ничего не упустил. Его карандаш и резец доходили только-только до определенного предела и останавливались на нем; но чувствуется, как хотелось ему пририсовать этому дьяволу еще второй рог, сделать его клюв крючковатым, как нос у ведьмы, а ногти когтистыми, вообще намекнуть как-нибудь, что тут и до черта не так уже далеко. И другая гравюра – гриф. Смотришь и понимаешь, что художник рисовал птицу, а вспоминал-то дракона. И размах дьявольских крыльев, и перья, похожие на чешую, и стальные когти, и змеевидная, морщинистая шея гада – все, все ясно выдает мысль художника. Он понимал, что гриф вышел из рук создателя не совсем таким, каким был задуман, что не все намеки в нем расшифрованы, не все дожато, додумано до конца. И будь, например, Господом-Богом он, художник, все брошенное мимоходом было бы доведено до полной ясности. Дракон был бы драконом, а черт – чертом. Но над художником стоит ученый, и мысль о всей этой дьявольщине только чуть-чуть сквозит в точных, уверенных линиях его карандаша.
Таковы были старинные рисовальщики. И Хлудов тоже мог бы на всю жизнь остаться только одним из них. Но его окружали горы, пески, моря, зелень, голубейшее небо, цветастая земля – и он бросил карандаш и взялся за кисть. И недаром, конечно, взялся. Мир заблистал, задвигался, замерцал в его полотнах. Он так и не расстался – старый учитель рисования провинциальной гимназии – со своей почти фотографической сухостью и жесткостью рисунка, так и не узнал иных цветов и красок, кроме тех, которые выдавливаются на холст из тюбика.
Я уже писал: ему были недоступны ни полутона, ни переливы. Он не признавал ненастье и серое небо. Все, что он видел, он видел либо при свете солнца, либо при полной луне. Но тут ему уже не было соперников. Ведь он рисовал не только степи и горы, но и ту степень изумления и восторга, которые ощущает каждый, кто первый раз попадает в этот необычайный край. И именно поэтому каждое его полотно ликует и смеется от радости. Конечно, радость эта грубовата. Хлудов был начисто лишен того чувства, которое заставляет художника вдруг останавливаться в сумерках перед кустом сирени или перекатывать в руках светящуюся раковину. Но зато какие великолепные кисти винограда – сочного, спелого, тяжелого, пронизанного насквозь зеленым солнышком, – несет на лотке разносчик фруктов! Он стоит в древесной тени темной и светлой аллеи – рослый, сильный красавец, солнце жгуче пробивает сквозь листву и рассыпает на песке желтые медали и браслеты. На разносчике белая, сверкающая рубаха, высоко засученные брюки, крепкие, босые, бронзовые ноги, и сам он – бронзовый, молодой, крепконогий, с полновесной тяжестью на голове. Только взглянешь – и сразу станет легко на душе. Вот все это – жаркий полдень, зеленоватые потемки, тени и свет на песке, груда виноградных кистей, рослый улыбающийся красавец – и есть мир Хлудова. И вот что интересно. Семиреченская степь, как всякая древняя страна, просто набита памятниками. Огромные мазары, развалины великолепных мечетей – пышные, как взбитые подушки, – надгробья с узорчатыми надписями и полумесяцем, каменные бабы – целые мертвые города, населенные каменными людьми… Но ведь Хлудов все это попросту не заметил. Ни одной такой его зарисовки я не знаю. Вероятно, где-то в каких-то альбомах что-то подобное и есть, но картины на эти темы он определенно не рисовал. Он жил только настоящим, интересовался только сегодняшним, проходящим, живым.
Ясно, какой храм они построили с Зенковым. Однажды я это понял с полной отчетливостью. Долгое время на чердаке валялось несколько длинных черных досок, никто на них не обращал внимания, но как-то я перевернул их и через пыль и лампадную копоть увидел проступающую живопись. Досок было много – наверно, десятка полтора, я их все обтер мокрой тряпкой и выставил вдоль стены. И они все стояли в ряд – воины, цари и мужи. Одни суровые и решительные, другие – затуманенные раздумьем предстоящего подвига; на них сверкали панцири, латы и мечи, над ними парили нимбы и небесные короны. Потом был какой-то старец с детски розовым лицом и длинной благостной бородой. Он истово заводил глаза горе, а под ним лежали разбитые скрижали – осколки синеватого мрамора. Красавицы с нежным овалом лица, голубоглазые, тонколядые, пышноволосые, держали в длинных прохладных пальцах пальмовые ветви и лилии. Были видны все мерцающие лепестки, маркие, желтые, похожие на гусениц тычинки. Были еще и детские личики с крылышками (зачем их оторвали от земли и сделали ангелами?). Были быки и львы, змеи и голуби. Наверное, я наткнулся на остаток того самого большого иконостаса, о котором верненский батюшка Марков, грешивший стишками, писал в «Семиреченских ведомостях» так:
И он действительно горел со всех сторон и со всех досок. Горел даже на чердаке. Даже через пыль и копоть. Даже через десятки лет забвения и пренебрежения.
И когда я ушел от этих досок и спустился вниз под белый купол музея, к высоким окнам, под целые столбы и туннели света, к своим каменным, бронзовым, медным и железным векам, я понял, почему Зенков поручил украшать храм именно Хлудову.
И мне стало очень радостно за них обоих.
Глава пятая
Недели через две после этой выставки директор забрался ко мне наверх и спросил, не знаю ли я такого – Николая Семеновича Корнилова. Я ответил, что если он говорит о том молодом человеке, который служит в публичной библиотеке, то знаю. Раза два мне пришлось обращаться к нему по разным личным нуждам. Один раз я его просил доставить мне две очень важные для меня книги, другой раз, когда меня послала в библиотеку редакция «Казахстанской правды», он водил меня по отделам и показывал книжные редкости. Ведь речь, наверно, идет о том самом индексаторе Корнилове, что показал мне издания Галилея.