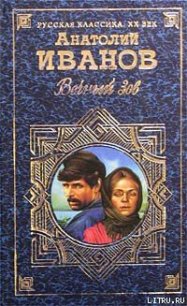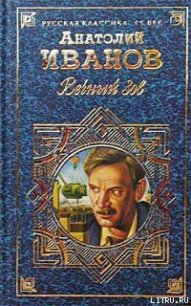Тени исчезают в полдень - Иванов Анатолий Степанович (читать книги полные .TXT) 📗
– Я подумаю, Захар Захарович… Может быть, попозже, летом…
А сегодня утром ворвался к ней Мишка Большаков – шумный, возбужденный.
– Чего попозже?! Чего летом?! – закричал он с порога. – Где у тебя сын? В яслях? Айда за ним!.. Хотя нет, постой, сходим потом. Сейчас укладывай чемодан. Бери пока самое необходимое, а переправа через Светлиху наладится – я все твое барахло в тот же день перевезу… Хотя постой и с чемоданом, – сперва в редакцию, увольняться. Пиши заявление! Бумага, чернила есть? Нету! Ну, в редакции напишешь. Да не стой ты, чего стоишь?! На, одевайся… Светлиха вот-вот может тронуться…
Перед таким натиском Зина не устояла, надела пальто. Да, откровенно говоря, она ждала Мишку, почему то была уверена, что он немедленно явится за нею.
Редактор не удивился, когда она положила ему на стол заявление с просьбой об увольнении.
– Ну что же, Зина, желаю тебе счастья, – сказал Петр Иванович, накладывая резолюцию.
… Через Светлиху они перебрались еще засветло, прошли по улицам деревни, не обращая внимания на удивленные и откровенно любопытные взгляды зеленодольцев, остановились возле крыльца, на котором стоял Антип.
– Зинка! – воскликнул тот. – Ты домой, что ли? Значит, правду говорил Захар…
– А он что, обманывал тебя когда? – ответил за нее Михаил. – Держи, папаша, чемодан.
– Да, Зинушка! Да эт-то ведь… – воскликнул Антип, прослезившись. – Да ты прости старого отца-дурака! Он ведь все, Устинка Морозов, науськивал. И на тебя. И на Клавдию. Заходи, чего же… Обои заходите…
– Мне в гараж надо еще сбегать, там машину ремонтирую. И так Сергеев, наверное, шкуру спустит, что долго… А я вообще-то зайду, Зина. До свиданья…
Мишка побежал, уже на ходу оборачиваясь и махая рукой. А Зина стояла на низеньком крылечке, держала на руках уморившегося за дорогу сынишку, смотрела вслед Михаилу и думала, что она безмерно благодарна за что-то этому бесхитростному, чистому парнишке, и пусть он будет очень, очень счастливым…
3
Наступала весна.
Снега на зареченских лугах осели, сделались крупитчатыми и грязными. Пастухам, выгнавшим скот на просохший, хотя и не зазеленевший еще увал, было видно, что среди снежных равнин там и сям стали проступать черные пятна воды. Эти лужи с каждым днем увеличивались, съедая снежные берега, в полдень отсвечивали жаркой медью. На них вольготно и безопасно чувствовали себя дикие утки, пролетающие ежедневно над деревней длинными вереницами.
Вешние лужи разлились и по всем улицам деревни. Утки на них, правда, не садились, только ошалевшие воробьи крутились у самой воды, беспрерывно затевая неизвестно из-за чего жестокие драки.
Целый день кругом все текло, сверкало, стучало, гремело. Текли ручьи, сверкали под солнцем огромные разводья на Светлихе и чисто промытые окна домов, стучали кузнечные молотки, гремело железо в колхозной механической мастерской…
На пашнях протаивали высокие места, и от черных лысин шел пар, точно они перегрелись под снегом за долгую зиму…
На этот раз с поезда, сделавшего на полустанке минутную остановку, сошел только один человек. Не дожидаясь, когда состав тронется, он закинул на плечи тощий мешок и быстро пошел той же дорогой, что и Фрол с Клавдией, Егор Кузьмин с Варварой и Михаил с Зиной.
Звали человека Митька Курганов. Он возвращался домой, в Зеленый Дол. Но откуда возвращался – этого он и сам не знал.
… События последних месяцев оглушили его, запутали, сбили обычную его бесшабашность и самоуверенность.
Все началось с ухода отца к Клавдии Никулиной. Митька, как и Степанида, узнал об этом ранним утром, когда им кто-то сообщил, что Фрол ночевал у Клавдии. Едва осмыслив случившееся, он остолбенел и онемел. Как?! У Клашки?! О которой у самого Митьки нет-нет да мелькали вороватые мыслишки…
А мать стонала и причитала, болтая растрепанной головой:
– Сыночек мой! Отец-то… Видано ли! Позор-то какой! Уж я ли не берегла дом? Что заработано, что с огороду когда продано – все в дом, в свое гнездо… а он сам, вертопрах, к вертопрахе и ушел…
Митькины уши были словно заложены ватой, голос матери доходил еле-еле. Сорвавшись, он побежал к дому Никулиной, схватил отца за грудь:
– Ты что устраиваешь, отец?! Ты к кому это…
От отцовского удара он отлетел в угол, стер рукавом с подбородка просочившуюся полоску крови. Вату из ушей отец тоже, вероятно, выбил, потому что Митька отчетливо услышал:
– Сопляк еще мне… чтобы понимал!
– За… за что?! – прохрипел Митька, нагнул голову, готовясь ринуться на отца.
– За все. Половину – за внучку Шатрова. Но, но, охолони-ка, не то и остаток получишь! Другая половина потяжельше будет.
Митька, может, и не «охолонул», но повел головой, будто прислушавшись к чему-то.
– При чем тут Шатрова?
– При том… На станцию-то к кому бегал? Зачем?
– А-а! – Митька нехорошо ухмыльнулся. – Так за этим же, за чем ты сюда вот. Только я холостой вроде…
Отец поглядел на него и произнес:
– Вроде и другая половина тебе… не лишняя будет.
В голосе его было такое, отчего Митька снова повел головой.
– Интересно рассуждаешь, батя. Тебе можно, а мне… Не вижу логики…
– Молоко-то еще на губах висит, чтоб увидеть. Оближи сперва их…
Эти слова смертельно обидели Митьку. Он снова наклонил голову, но, не решаясь броситься на отца, весь вздрагивал, топтался на месте.
– Молоко?! Облизать, значит? – переспросил он. – Что ж, ладно… Я с Зинкой жил, ты с Клашкой живи. Обратаем сеструх…
Фрол как стоял, так и продолжал стоять, не шелохнувшись. Он только начал медленно бледнеть.
По мере того как Фрола заливала бледность, все черты его крупного лица становились резче, отчетливее – Курганов будто бы каменел на глазах.
– Что-о?! – спросил он, не шевеля губами.
– Вот тебе и что… Оно складно у нас получится, в лад.
– Значит… сын у Зинки…
– Что – сын?! – Митька еще раз, но теперь глуповато усмехнулся. – И у тебя теперь будет.
– Дмитрий?!
Митька опомнился, когда уже висел в воздухе. Отец держал его на весу, то поднося поближе к глазам, то отстраняя подальше, словно выбирая, с какого расстояния можно лучше всего рассмотреть сына.
– Батя… батя… – хрипел Митька.
– Гляди мне в глаза! Гляди!! – закричал Фрол.
Митька было посмотрел, но, моргнув виновато раз-другой, отвел взгляд. Из отцовских глаз, больших, усталых, мутных, выкатились крупные слезы, упали вниз, оставив на шершавой коже щек две впалые полоски.
– Эх ты… сын, – через силу, еле слышно, произнес Фрол, проглотил тяжелый комок, поставил Митьку на пол, отвернул от себя и толкнул к двери.
Митька не то чтобы не понял, он упрямо не хотел понимать, что означали слова отца. Он постоял маленько на улице, поднял воротник тужурки, сунул руки в карманы и двинулся прочь.
По переулку торопилась куда-то Ирина. Митька глянул на нее и с тем же упрямством подумал, что надо бы завтра смотаться на полустанок, к докторше.
Однако следующий день был чем-то занят, еще следующий – тоже. А потом известие из Ручьевки, пурга, пожар, арест какого-то Меньшикова… И разговоры, пересуды всколыхнувшейся деревни…
Всем этим Митька был ошарашен, оглушен и, кажется, напуган. Он слушал все деревенские разговоры, на своего отношения к случившемуся никак и никому не высказывал.
Однажды мать спросила у него осторожно:
– Что, Митенька… Правда, что докторшу собаки шибко изувечили? Болтают – страшно. А может, и не сильно? Ты бы узнал…
– Узнаем, – буркнул Митька. А у самого мелькнуло где-то торопливо: «Может, хорошо, что больше не пошел к ней».
Краснова была очень плоха, нужно было срочно доставить ее в районную больницу. Но путь из Ручьевки до Озерков на автомашине она могла не выдержать.
Вера Михайловна разрешила на автомашине привезти ее лишь на полустанок, а дальше – обязательно поездом.
Дорога из Ручьевки до полустанка только через Зеленый Дол. И в Зеленом Доле больной потребовались отдых и перевязка.