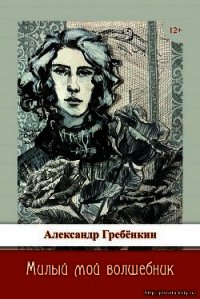Я отвечаю за все - Герман Юрий Павлович (читать книги без txt) 📗
Пузырев неподвижно смотрел на Устименку. Но в глазах его уже не было того нестерпимо тоскующего выражения, смешанного с ужасом, которое Владимир Афанасьевич заметил, открывая дверь. Наоборот, Пузырев казался теперь немного сконфуженным.
— Бывшая завнаробразом меня навестила, — сказал он, словно бы уводя разговор на другую тему. — Смешно, право. Я босяк был в школьные годы, шпана ужасная. Исключали трижды из средней школы. При ее помощи только и закончил свое небогатое образование. Устименко тоже, как вы. Не родственница вам?
— Некоторым образом.
— Я так и подумал, — сказал Пузырев, кривясь от боли и стесняясь того, что ему больно. — Еще помню, как она, то есть родственница ваша, маму мою покойницу утешала, — дескать, Валерий Чкалов вроде бы не был примерным мальчиком в далеком детстве. А мама сказала, что вряд ли педагогичны такие примеры…
Он ненадолго замолчал и вдруг спросил:
— А Богословский почему не наведывается?
— Болеет Николай Евгеньевич, — быстро ответил Устименко, ответил так, как ответил бы в подобном случае, вероятно, сам Богословский, — с сердцем у него нелады, усталое сердце, да и годы немолодые…
— А тут слух прошел…
— Что ж слухи, — вздохнул Владимир Афанасьевич, поднимаясь. — Болтают всякое. Все привыкли, что Богословский всегда в больнице, даже если больной. Ну, а тут…
— Сейчас-то получше ему?
— Сейчас? Сейчас получше. Но он еще полежит. Лежать ему надо…
В коридоре Устименко постоял: так вдруг закружилась голова и засвистало в ушах, что испугался — плюхнется вот тут, у поста дежурной сестры. Но не упал. Поплелся к открытому окну и высунулся, будто увидел нечто примечательное, а на самом деле для того, чтобы подышать. «При рентгенотерапии главное — пребывание на воздухе».
«И наверное — покой!» — подумал он. «Покой и воля», как произнесла однажды незабвенной памяти Нина Леопольдовна.
Дома, когда он пришел, все, как назло, были в сборе. Почему-то считали, что его нужно от чего-то отвлекать и чем-то развлекать. А он хотел одиночества. Ему нужно было непременно остаться одному. Во что бы то ни стало, без всяких отвлечений и развлечений. И никто этого не понимал, даже умная тетка. А он не умел удерживаться нынче и, когда началось обычное в эти дни собеседование, не сдержался и посоветовал им ехать в санаторий немедленно.
— Ну, а ты?
— Что я, маленький? Беспомощный? Не справлюсь? Путевки же горят, за них деньги плачены. И вы, в конце концов, бездомные, это же не жизнь тут. А там природа, весна, разные запахи. Папоротник, или как его?
Устименко жалко, не по-своему, улыбнулся. Так он никогда не улыбался. «Это его доконали, — подумала Аглая Петровна. — Замучили».
— В конце концов, она и здесь дышит воздухом вволю, — неопределенным голосом произнес Родион Мефодиевич. — Унчанск — не индустриальный центр.
Степанов пил чай из блюдечка, как любил дед Мефодий. Держал блюдце тремя пальцами, как-то диковинно ловко, и наслаждался. И на буром его лице было выражение довольства и полного спокойствия. Старел и он. Одна только тетка не старела своей сутью, оставалась, как в молодости.
— Глупо! — сказала она, закуривая.
— Беспредельно глупо! — согласился Владимир Афанасьевич.
— Не дерзи, — велела она, — я тебя воспитала.
— И воспитала морального урода…
Она вгляделась в него. Он опять задумался, словно спрятался от всех. Лицо у него сделалось непроницаемым, такое лицо у него бывало и в юности, когда он не допускал к себе сочувствующих. Именно таким он был, когда узнал о гибели отца в далеком испанском небе. И еще в войну, когда они встретились в московском госпитале.
Как странно — он уже седеет.
Разве могла она себе представить Володьку — седым?
Может быть, правда уехать?
Случаются такие времена, когда человеку нужно побыть с самим собою и только с самим собою. Или еще с тем, кто ему ближе, чем он сам?
С кем же?
Кто ему ближе, чем она, Аглая Петровна?
— Володька! — позвала она.
— Да? — с вежливой готовностью ответил он.
— А может быть, это радиация? Может быть, прекратишь?
— Пустяки, тетка, — опять спрятался он.
— Но не может же один человек…
— Может, — не слушая ее, устало ответил он. — Может. В том-то и дело, что может.
От табачного дыма его поташнивало, но он все-таки курил: как-никак развлечение — размять табак, дунуть в мундштук, спичку зажечь. И можно смотреть на колечки, которые он научился запускать. «Можно» — дурацкое слово. Вот «нужно» — слово толковое, определенное, выразительное. «Надобно», — говаривал Николай Евгеньевич. «Надобно кровь перелить. Надобно, не откладывая». В общем, все это не имело значения.
Под разговоры тетки с Родионом Мефодиевичем он записал на листочке: «Вялость мысли. Идиотское чувство, будто ничто не имеет значения. Тупость. Голова набита опилками. Тупое упрямство, или упрямая тупость».
— Мы тебе мешаем? — спросила Аглая Петровна.
— До слез, — ответил он. — Я же хочу, чтобы вы убрались в этот санаторий, из эгоистических соображений. Я же эгоист, ригорист, мучитель и вообще свинья…
— А свинина, промежду прочим, нонче в рынке опять подскочила, — сообщил дед Мефодий, стоя в дверях. — Шестьдесят рублей просят. Я ему — а в ухо хочешь?
Он тоже сел пить чай.
Устименко писал:
«Отличное угнетающее средство. Может быть, это тоже положительное свойство или качество облучения? Предположительно — если бы я в самом деле был болен, то отупение, в которое меня повергает рентгенотерапия, вероятно можно было бы считать фактором положительным. Меньше печальных размышлений, меньше страха смерти, меньше всей этой жалкой дребедени в смысле — ах, листочки, я вижу вас в последний раз, ах, небо голубое…»
За его спиной адмирал вдруг заявил:
— Не могу же я в санаторий ехать, так в дэ-пэ-ша и не побывав. Надо сходить, поглядеть — как там и что.
Сообщив, что скоро вернется, Степанов исчез — пошел проверять, как вселяется ДПШ в бывший особняк Героя Советского Союза. Дед Мефодий стряпал в кухне жаркое из свинины — пригляделся к искусству Павлы. Владимир Афанасьевич делал вид, что думает над своими писаниями, — разговаривать он совершенно не мог. Тетка Аглая прикорнула на постели. Это теперь часто с ней случалось — среди дня вдруг ужасно уставала, бледнела и ложилась.
Адмирал вернулся очень довольный. Пионеры и школьники встретили его «тепло», как он выразился. С ними, по словам Степанова, «наметилась договоренность в отношении создания пионерского морского клуба». В общем, он был совершенно счастлив. И за жарким из свинины, от одного запаха которого Устименку тяжко мутило, они все говорили, говорили, перебивая друг друга, все, кроме Владимира Афанасьевича.
К вечеру ему все-таки удалось их выдворить. Эта победа нелегко ему далась, но он одержал ее, солгав, что с нынешнего дня сам ложится в свою больницу. Передачи ему не нужно. В крайнем случае он позвонит деду Мефодию, тот не откажет…
— Об чем речь, — сказал дед, — все исделаю, в рынок живой ногой, скухарю чего надо — кисель там, компот…
Он был преисполнен высоким чувством собственной необходимости и даже выпивать перестал в последнее время, утверждая, что «нынче и трезвому не управиться с хозяйствованием, не то что какому пьяному!».
Такси в санаторий «Никольское» выехало со двора часов в десять вечера. Гебейзен, дед Мефодий и Устименко помахали уезжающим с крыльца. «Бор, — вспомнилось Владимиру Афанасьевичу, — Наташе там будет хорошо». Именно об этом санатории когда-то говорила Вера.
— Теперь осталось три молодых человек, — сказал Гебейзен, когда они вернулись в кухню. — Три молодежь. Можно немного кутить?
И засмеялся ненатуральным смехом.
Устименко даже зубами скрипнул от ненависти к себе: все ему нынче казалось ненатуральным, мелким, мучительным… Минут десять посидел на кухне без всяких мыслей и пошел в больницу.
Домой он в эту ночь не вернулся — ему постелили в ординаторской, на том самом диване, на котором спал некогда Николай Евгеньевич. Спал Богословский вполглаза, и тогда во всей больнице было спокойно, спокойно, как может быть спокойно в больнице, или, точнее сказать, — надежно. И лампочка эта под колпаком из серой бумаги светила Богословскому. И китель свой он вешал на этот самый крючок. Впрочем, тут все решительно было связано с Богословским, только его самого теперь не было.