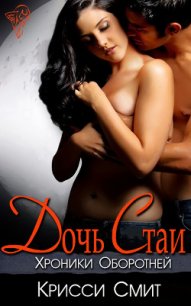Как быть двумя - Смит Али (бесплатные полные книги txt, fb2) 📗
Басурманским? спрашиваю я.
Он широко улыбается. У него крепкие зубы.
Да, басурманским, говорит он. Я не знаю, как это по-вашему называется.
Я улыбаюсь и подхожу ближе.
А что означает это слово? спрашиваю я.
Оно означает, что ты — больше, чем что-то одно. Ты больше, чем от тебя ожидают.
Потом он спрашивает, не могу ли я ему помочь. Говорит, что ему нужна вязка.
Что? не понимаю я.
…- он произносит слово, которого я не знаю. Мне надо одежду на себе завязать чем-то таким, чем вяжут.
Он описывает окружность на уровне пояса.
Пояс? переспрашиваю я. Чтобы одежду запахнуть?
(ведь рубаха на нем разодрана, держится на одной застежке у шеи, а стоит март в самом начале, холодное начало весны.)
У меня был кусок веревки в заплечном мешке, я купила ее на рынке во Флоренции у мужчины, который утверждал, что это счастливая веревка, снятая с повешенного, которая предохраняет от повешения и четвертования (кто носит при себе веревку с виселицы, сам никогда в петлю не угодит, говорил он): веревка довольно длинная и достаточно толстая, поэтому вполне подойдет.
Я иду к нему, а он — ко мне, я даю ему веревку: он берет ее, рассматривает, взвешивает на ладони, потом улыбается — словно расплачивается улыбкой.
Когда твои руки пусты, они, по крайней мере, свободны.
Никогда еще мне не приходилось видеть такого красивого мужчину.
Он замечает, что я вижу в нем эту красоту, и его естество восстает.
И там, в придорожной рощице, я припадаю к нему губами и играю на нем, как Эвтерпа на деревянной флейте: потом мы вместе: на нем запах и вкус травы, чистой земли, хлеба, пота: его красные глаза становятся не признаком усталости, а чего-то совсем иного: мозолистые ладони, оказавшись под моей одеждой, вдруг становятся тонким и чувствительным инструментом.
Когда мы поднялись, я была вся в траве и земле, и он тоже: он отряхнул меня: снял с моего плеча прилипшую травинку, прощально усмехнулся, взял травинку в зубы, перебросил веревку через плечо и, не прячась, зашагал обратно в поле, к работе, которую оставил.
И это было все: это было ничем: этого было больше, чем достаточно.
Славно.
Девушка, словно догадавшись, что я закончила свой рассказ, затемняет оконце с любовными забавами: и плохо разыгранная любовь исчезает: должно быть, она ее не развеселила, потому что она очень печальна.
Она сидит, положив закрытое оконце на колени.
Мы с ней смотрим на черного дрозда и еще четырех дроздов — и самцов, и самок, которые прогоняют птицу другой породы со своего куста, на котором они клюют красные ягоды оттенка той краски, которую великий Ченнини в своем трактате называет «драконовой кровью» — она годится для работы на пергаменте, но нестойкая.
Девушка встает, пересекает лужайку, а ее брат из-за изгороди что-то выкрикивает на их языке: она тоже кричит в ответ что-то более длинное, чем просто «прекрати», больше похоже на считалку из какой-то игры или заклинание, потом проходит мимо ограды, хмурая и отстраненная: и тут же оказывается под шквалом веточек и камешков: мальчик стоит на краю бочки, набирает всего этого добра на лопатку, подбрасывает в воздух, и камешки с палочками дождем сыплются на землю: девушка останавливается, но не сердится, а громко смеется.
Она застывает, раскинув руки, и в одно мгновение все ее горе развеивается, она смеется, как дитя: затем кладет свое оконце на траву, забегает за оградку, сбивает братишку с ног и тащит его на траву, и они принимаются кататься по лужайке, при этом она щекочет малыша, а тот от этого веселится еще больше.
Как приятно видеть внезапное счастье, такое, как это.
Ей повезло, что у нее есть такой брат и такая любовь: между мной и моими братьями не было ничего, кроме воздуха, но нас разделяли невидимые стены, более толстые, чем стены ее комнаты.
Когда она возвращается туда, где стоит ее кровать, к ней возвращается и печаль: она проводит много долгих минут за ее завесой, потом внезапно вскакивает, сбрасывает перепачканную рубашку, вытряхивает ее в окно, потом снова набрасывает на плечи, не застегивая пуговки, и снова садится на кровать.
(window.adrunTag = window.adrunTag || []).push({v: 1, el: 'adrun-4-390', c: 4, b: 390})На всех четырех стенах ее комнаты много картин, все они весьма жизнеподобно исполнены. На южной стене, у которой стоит узкая кровать, висит изображение двух красавиц, которые идут куда-то, как подруги: у одной золотые волосы, у другой — темные, но солнце ласкает их, и они блестят — и обе головки сияют на солнце: девушки идут по улице, над которой растянуты тенты: это какой-то теплый край: их одежда выглядит, как мозаика из золота и лазурита: девушки беседуют и, кажется, как раз в это мгновение в их беседе возникла короткая пауза: золотистая девушка озабочена, а темноволосая очень естественным движением оборачивается к ней так, чтобы лучше ее видеть: в этом взгляде — любезность, скромность, уважение, какая-то мягкая задумчивость.
Непринужденная светотень, решимость, нежность штриха — все это свидетельства того, что картину создал великий мастер.
На западной стене — изображение женщины поразительной красоты: ее глаза устремлены вдаль: что-то прячется прямо за тобой, говорит этот взгляд, я вижу это — и оно печальное, загадочное, таинственное: глаза и выражение на редкость хорошо переданы: одной рукой она обнимает себя за шею, по крайней мере, мне кажется, что это ее рука, а линия ее волос (цвет которых лежит между светлым и темным), обрамляющих лицо, уподобляет его той маске, которую древние греки избрали символом грусти: она, должно быть, о чем-то жалеет или скорбит: наверно, о жертвах, а сама она — это образ святой Моники, я об этом догадалась, увидев подпись: знакомые слова, такие же, как в моем языке: «MONICA VICTIMS».
Восточная стена над изголовьем кровати сплошь покрыта картинами, их очень много, и на них изображена еще одна женщина: на всех картинах — одна и та же, те же смеющиеся глаза: расположены картины с любовью, они заполняют всю стену, им тесно, они почти закрывают одна другую: но женщина на этих изображениях — не та, что приходила во дворец с картинами: нет, эта темноволосая, совсем другая дама с мягкими манерами, изысканно одетая и хорошо сложенная — я поневоле любуюсь ею: тут много ее портретов в разном возрасте, словно на стену пролилась вся ее жизнь: некоторые выполнены в серых тонах, там изображено дитя — в нем я тоже узнаю черты этой женщины.
На последней стене, северной, где, как я сразу же заметила, кто-то устранял следы сырости и совсем недавно клал свежую штукатурку, находятся эскизы дома, сделанные с помощью той самой волшебной дощечки с окошком: рядом с этим домом мы недавно сидели на плохо сложенной кирпичной ограде, пока не появилась женщина с метлой и не прогнала нас.
Девушка развесила изображения этого дома — окна, дверь, калитка, высокий куст, фасад — на стене напротив кровати с серьезностью, которая, как я чувствую, является самой существенной частью ее натуры.
Потом она уселась на кровати и стала смотреть на этот дом так сосредоточенно и внимательно, словно ей хотелось уменьшиться настолько, чтобы самой войти в эти изображения.
Чтобы так пристально смотреть, следовало бы иметь картину побольше, в натуральную величину, и с более проработанными деталями.
Художнику не сложно превратить маленькое изображение в большое: если бы у меня были материалы и хотя бы одна рука, как тогда, когда двор герцога Модены и Реджо, маркиза Феррары Борсо (которого я за десять лет до того видела, когда ему пел панегирики ангел Справедливости с лебединой кровью на крыльях) стал призывать художников, чтобы те расписали стены дворца, где не место скуке, образами владыки и его мира в натуральную величину.
Это желание, я думаю, возникло у Борсо отчасти из-за того, что его отец когда-то заказал для себя иллюминированную Библию, и чтобы превзойти его, Борсо пожелал для себя еще более нарядную книгу, полную миниатюр, — такую, чтобы там было не меньше тысячи маленьких изображений священных предметов и святых, в том числе и некоторые придворные сценки: я отчетливо представляю Борсо, как он в один из дней разглядывает эти картинки: каждая из них прекрасна, каждая — шедевр размером с ладонь, и он задумывается над тем, как увеличить эти картинки, чтобы они стали размером с его собственное упитанное тело, чтобы его могли видеть все жители города и властители окрестных земель, чтобы он сам прохаживался внутри такой Библии: и может ли быть для этого более подходящее время, если его вот-вот сделают еще и герцогом Феррары, на что он надеялся все эти годы, и не как-нибудь, а по благословению самого Папы?