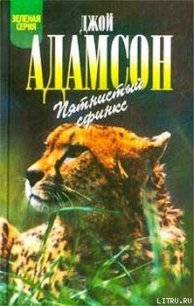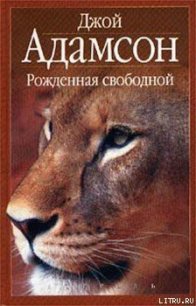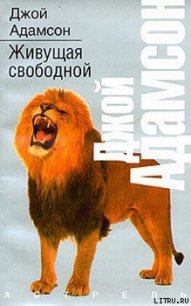Полуночный ковбой - Херлихай Джеймс Лео (читать книги без txt, fb2) 📗
11
«Столкнул так, что и не выбраться! Ну, дер-р-рьмо! Любой бы на моем месте не выглядел лучше!»
Джой с отвращением смотрел на себя в зеркало. Прошли два дня, и он еще не покидал комнату. Он был бледен, у него были голодные спазмы и что-то не в порядке с затылком. Но даже в этом бедственном состоянии он без усилий усваивал новую идею, которая вертелась у него в голове: во всем этом мире есть только один человек, который принимает его интересы близко к сердцу, да и его самого.
— Ковбой, — сказал он своему отражению, обращаясь к нему с таким глубоким чувством, что его вполне можно было принять за любовь, — я буду заботиться о тебе, и никто не посмеет ухмыльнуться в твой адрес, и до самых последних дней я буду с тобой. Ты видишь эту берлогу, которая называется комнатой? Наступит день, и ты покинешь ее. И никто больше не трахнет тебя по башке… м-м-м, впрочем, пусть только попробует. — Ему нравилось слышать новые жесткие нотки в своем голосе, и в глазах появилось что-то новое, дикое и опасное, и он с удовольствием глядел на них.
В эти дни одиночества Джой обретал энергию, чтобы начать существовать. Постепенно он накалялся гневом, вспоминая старые и новые обиды — и Перри больше не представлял для него особого интереса, затерявшись среди остальных, — но вспыхивающие в нем искры ненависти дополняли друг друга и отравляли его душу яростью. Вытащив из глубин памяти все свои годы, как барахло, сложенное в сундук, он перебирал воспоминания, отбирая те из них, которые помогали поддерживать ярость, давшую основание новой силе, жившей в нем, и казалось, что все, что он мог вспомнить, шло в дело, утверждая его в мысли, что равнодушие мира к нему зиждется на ненависти. Он не знал, откуда она идет, но был уверен, что в нем есть нечто такое, из-за чего никто не хочет иметь с ним дело. Это ощущение всегда присутствовало у него в подсознании, было одним из многих, с которыми он не знал, что делать: ощущение существа, которому нет места в этом мире, чужестранца, не знающего своего флага, одного из тех, у кого нет даже соседей.
Даже там, где он рос с детства, он чувствовал себя чужаком и, осторожно оглядываясь по сторонам, вертел головой, пытаясь понять хотя бы намек на подлинный смысл слов языка, который он слышал, но который, конечно же, не был его собственным; пробуя землю под ногами, он делал каждый шаг, словно бы сомневаясь в прочности земли этой странной планеты. И теперь, тщательно, но неумело обдумывая свою жизнь, он приходил к выводу, что с самого начала стал жертвой направленной против него кампании — никогда, никогда, никогда он не должен забывать о своем положении чужака, иноземца. Он пришел к странному заключению, что почти каждый из всех, кого он знал или о ком слышал, были частью этого заговора. Даже многие из тех, с кем он делил сексуальные радости, — да они особенно — отказывались иметь с ним дело во всем остальном: получив удовольствие, они исчезали как дуновение ветерка, без всякого сомнения, издеваясь над ним за ту серьезность с которой он благодарил их. Полный гнева, он особо отметил их, но, в сущности, они не отличались от всех прочих. Он перебирал в голове и лица, и группы, и организации, которые были достойны его гнева, — и старых учителей, и армию, и своего маленького розового босса в кафе, и компанию Андриана Шмидта, что вечно толклась около магазина, и так далее. Но гораздо больше лиц проходили перед ним без имен. Среди них были и те, с кем он когда-то ходил в школу, мириады клерков, чиновников, продавцов и просто незнакомцев, которые обращались с ним со снисходительной брезгливостью или вообще не удостаивали его внимания. Список расширялся, пока не стал включать в себя учреждения, банки и библиотеки, смысл работы которых он не понимал и служители которых вечно относились к нему, словно он явился ограбить это учреждение или каким-то иным образом мешать им. В конце концов он отнес в эту категорию весь город Альбукерке, и эта мысль заставила его раскинуть мозгами: если Хьюстон ничем не лучше Альбукерке, смело можно ручаться, что Гонконг, Де Мойн и Лондон ничем не лучше Хьюстона. Следуя этой логике, карту всего мира можно окрасить в цвет его ярости.
Но как бы он ни смотрел на мир, Джой чувствовал, что кто-то скрывается за покровом его благопристойности: какой отменный сукин сын играет в прятки с его памятью. Но кто? Или что?
И как-то он вспомнил Салли Бак.
Салли Бак говорила по телефону: «Джой, что ты делаешь, радость моя? Вот и прекрасно, а теперь слушай: я договорилась о встрече на поздний час, и когда я доберусь до дома, то буду такой усталой, что, может быть, зайду в «Коня и Седло» выпить пива».
«Мой красавчик? Как ты себя чувствуешь? Слушай, вроде твоя бабушка отправляется в Санта-Фе на день Четвертого июля, и похоже, что у меня новый ухажер, неплохо для такой старушки, как я, а? А ты веди себя молодцом, идет?»
Салли Бак стоит в дверях его спальни:
«Ну сейчас и я завалюсь на боковую, сладенький мой, а то я прошлую ночь почти совсем не спала, надеюсь, что у тебя было все хорошо днем, вот ты мне все и расскажешь утречком, а то я сейчас ни одного слова разобрать не могу».
Салли Бак в своем косметическом салончике:
«Слушай, сахарный мой, эта приемная только для леди, а ты же знаешь, как они к этому относятся, так что, если хочешь, бери этот журнал домой и не играй тут».
«Эй, малыш, тебе нет смысла дожидаться меня. Я должна еще заскочить к Молли и Эду. Ну неужели ты не можешь накрыться одеялом и заснуть как хороший мальчик?»
«Табель? А разве я не подписывала его на прошлой неделе? Ты говоришь, что это было шесть недель тому назад? Господи, как время летит, давай его сюда, где мне расписываться, сзади? Вот так! А теперь беги, малыш, а то у меня и так голова кругом идет».
Салли Бак. Он так и не мог припомнить, за что же он так любил ее: глупая старая балаболка, никогда не посидит спокойно, вечно сует нос во все дырки, то вытаскивает деньги и покупает то, что давно обещала, вечно все путает, и из-под платья у нее торчит комбинация, о чем ей приходится напоминать. Единственное, что он с удовольствием вспоминал, так это ее длинные тонкие ноги и то, с какой грустью он смотрел на ее большие костлявые колени, когда она скрещивала ноги. Даже появившись привидением в этой комнате гостиницы в Альбукерке, она, в сущности, не обратила на него внимания, а просто сидела тут, болтая, как бы заполучить обратно ее дом, о поездках верхом и о прочей такой же чепухе. Скачи, Салли, старая дура, подумал он, скачи к дьяволу. И когда ты с ним встретишься, можешь сделать ему укладку. Дер-р-рьмо.
Так кто же, стараясь быть предельно честным, спрашивал он себя, так кто же относится к нему, как к существу, которому имеет смысл посвятить день или два? Кто? Вот так возьми и скажи — кто? В памяти у него всплыло два облика и ковбойская песня. Вот эти два лица он не мог забыть: одно из них принадлежало лихому парню, а другое — человеку, который не был во плоти и крови вот уже две тысячи лет. И осталась еще только песенка: «беги со мной, мой песик, беги со мной, беги со мной…»
Вудси Найлс!
Вот Вудси Найлс в самом деле был исключением. Но что толку от него здесь и сейчас? От него осталось в памяти лишь блистательное воспоминание, слишком неправдоподобное в своем великолепии, чтобы верить в его существование, от него не осталось ничего, кроме запаха хорошего табака, гитарного перебора, подарков в виде веселых чертенят и давным-давно ушедшего лета; все это было исключением, таким редким исключением, что ему не было места в сегодняшнем взгляде на мир. Так что сияющее веселым сумасшедствием досиня выбритое лицо Вудси Найлса и крупные костлявые коленки Салли Бак он изгнал из воспоминаний: они были опасны для него, ибо заставляли стихать жившие в нем гнев и ярость. А как-то ему стало понятно, что, если он собирается иметь дело с этим миром, ему нужен весь запас гнева, скопившийся в нем.
Теперь в моечной кафе «Солнечное сияние» Джой работал куда быстрее и с куда большим напряжением. С какой-то яростью он бросал тарелки на поднос и ставил их на ленту конвейера. Словно, если он запихает в ненасытную пасть этой машины миллионы тарелок, она успокоится и извергнет деньги…