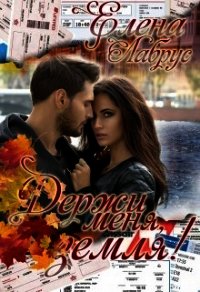Бог Мелочей - Рой Арундати (бесплатные онлайн книги читаем полные txt) 📗
Штат Керала еле брел, пораженный засухой из-за недостаточно обильных муссонных дождей. Люди умирали. Борьба с голодом должна была стать первоочередной задачей любого правительства.
Во время своего второго правления товарищ Э. М. Ш. уже осторожнее проводил в жизнь план Мирного Перехода. Этим он навлек на себя неудовольствие Коммунистической партии Китая. Его обвинили в «парламентском кретинизме» и в том, что он, «бросая людям подачки, затуманивает Народное Сознание и отвлекает людей от Революции».
Пекин переключил свое покровительственное внимание на недавно возникшую воинственную фракцию КПИ(м) – на так называемых наксалитов, которые подняли в бенгальском селении Наксалбари вооруженное восстание. Они сколотили из крестьян боевые отряды, экспроприировали землю, изгнали ее владельцев и учредили Народные Суды для разбора дел Классовых Врагов. Движение наксалитов распространилось по всей стране, сея ужас в буржуазных сердцах.
В Керале наксалиты вдохнули струю возбуждения и паники в атмосферу, и без того насыщенную страхом. На севере штата начались убийства. В мае того года газеты поместили размытую фотографию казненного землевладельца из Пальгхата, которого привязали к фонарному столбу и обезглавили. Его голова лежала боком поодаль от тела в темной луже – то ли водяной, то ли кровавой. Трудно было определить по черно-белому снимку. К тому же темноватому из-за предутренних сумерек.
Его открытые глаза выражали удивление.
Товарищ Э. М. Ш. Намбудирипад («Трусливый Пес, Советский Прихвостень») исключил наксалитов из партии и продолжал обуздывать народный гнев, вводя его в парламентское русло.
Демонстрация, настигшая лазурного цвета «плимут» в тот лазурный декабрьский день, была частью этой политики. Она была организована Марксистским Профсоюзным Объединением Траванкура-Кочина. А в Тривандраме, главном городе штата, другие Демонстранты должны были пройти к Секретариату и вручить петицию с Народными Требованиями самому товарищу Э. М. Ш. Оркестр обращается к своему дирижеру. Требования заключались в том, чтобы батраки на рисовых полях, работающие одиннадцать с половиной часов в день – с семи утра до шести тридцати вечера, – получили часовой обеденный перерыв. Чтобы женщинам платили в день не рупию двадцать пять, а три рупии; мужчинам – не две рупии пятьдесят пайс, а четыре рупии пятьдесят пайс. И чтобы к именам неприкасаемых перестали добавлять обозначения каст. То есть чтобы их называли не Ачу-парейян, Келан-параван, Куттан-пулайян, [24] а просто Ачу, Келан, Куттан.
Кардамонные Короли, Кофейные Графы, Каучуковые Бароны – приятели еще с пансионских лет, – приехав из своих уединенных, разбросанных поместий, потягивали в Мореходном клубе холодное пиво. Поднимали стаканы. «То, что зовем мы розой…» [25] – говорили они и сдавленно посмеивались, маскируя подступающую панику.
Колонна демонстрантов состояла из партийных активистов, студентов, батраков и рабочих. Прикасаемых и не-. Они несли на плечах тяжелый сосуд старинного гнева, подожженного от нового фитиля. В этом гневе чувствовался нынешний, наксалитский привкус.
Сквозь стекло «плимута» Рахель видела глазами, что из всех слов, какие звучат, самое громкое – зиндабад, да здравствует. Что, когда оно звучит, на шеях у людей взбухают жилы. И что руки, в которых люди держат флаги и плакаты, узловаты и напряженны.
В салоне «плимута» было тихо и жарко.
Страх Крошки-кочаммы лежал на полу машины, как сырой и липкий окурок сигары. И это было только начало. С годами страх, разросшись, поглотил ее всю. Заставил ее запирать двери и окна. Наградил ее двумя линиями волос и двумя ртами. Он, этот страх, был тоже старинным, из рода в род. Страх лишиться имущества.
Она пыталась считать зеленые бусины четок, но не могла сосредоточиться. Чья-то открытая ладонь ударила по окну машины.
Стиснутый кулак шарахнул по раскаленному лазурному капоту. Он с лязгом откинулся. Теперь «плимут» выглядел как нескладный голубой зверь в зоопарке, выпрашивающий у людей еду.
Хоть булочку.
Хоть бананчик.
Удар другого стиснутого кулака – и капот захлопнулся. Чакко приспустил свое стекло и крикнул тому, кто это сделал:
– Спасибо, кето! [26] Большое спасибо!
– Зря заискиваешь, товарищ, – заметила Амму. – Это же вышло случайно. Не хотел он тебе помогать. Откуда он мог знать, что в этой старой машине бьется пламенное марксистское сердце?
– Амму, – сказал Чакко ровным и нарочито небрежным голосом, – когда ты наконец перестанешь всюду соваться со своим отжившим цинизмом?
Салон машины, как губка, стал напитываться молчанием. Слово «отжившим» садануло, как нож по мякоти. С просверком солнца и судорожным вздохом. Вот в чем беда с близкими родственниками. Как врачи-извращенцы, они знают, где самые больные места.
Тут-то Рахель и увидела Велютту. Велютту, сына Ве?лья Па?пана. Велютту, своего лучшего друга. Он вышагивал с красным флагом. В мунду и белой рубашке, со взбухшими гневными жилами на шее. Обычно он ходил без рубашки. Рахель мигом опустила стекло.
– Велютта! Велютта! – закричала она ему.
Он замер на секунду, держа в руках флаг, вслушиваясь. Знакомый голос звучал там, где он никак не ожидал его услышать. Рахель, вскочив на сиденье машины, торчала из окна «плимута», как гибкий вертлявый рог машиноподобного травоядного. Со стянутым «токийской любовью» фонтанчиком, в красных пластмассовых солнечных очочках в желтой оправе.
– Велютта! Ивидай! [27] Велютта! – У нее на шее тоже выступили жилы. Он двинулся вбок и мгновенно исчез – нырнул в гневный поток.
В машине Амму резко обернулась, и в глазах у нее был гнев. Она шлепнула Рахель по икрам, потому что все прочее было за окном. Внутри остались только икры да коричневые ступни в сандалиях «бата».
– Как ты себя ведешь! – сказала Амму.
Крошка-кочамма втащила Рахель обратно, и сиденье, когда та опустилась на него, издало удивленный вздох. Они не поняли, решила Рахель.
– Там Велютта! – объяснила она с улыбкой. – У него флаг!
Флаг в ее представлении был вещью замечательной. Тем, что пристало держать хорошему другу.
– Ты глупая, непослушная девчонка! – сказала Амму.
Ее неожиданная злость пригвоздила Рахель к сиденью. Она была озадачена. Почему Амму так разгневалась? Из-за чего?
– Он же правда там! – сказала Рахель.
– Замолчи! – крикнула на нее Амму.
Рахель увидела, что на лбу Амму и над ее верхней губой выступил пот, что глаза ее стали твердыми, как мраморные шарики. Как глаза Паппачи на снимке из венского фотоателье. (Бабочка Паппачи нет-нет да и шелестнет крылышками в крови у его детей!)
Крошка-кочамма подняла опущенное Рахелью стекло.
Много лет спустя прохладным осенним утром, когда Рахель ехала в воскресном поезде от нью-йоркского вокзала Гранд-сентрал до пригородной станции Кротон, это вдруг пришло ей на память. Какое у Амму было лицо. Неприкаянный кусочек головоломки-паззла. Вопросительный знак, странствующий по книжным страницам и не способный найти себе место в конце предложения.
Эта мраморная твердость в глазах Амму. Блеск пота над ее верхней губой. И холодок внезапного обиженного молчания.
Что все это значило?
Воскресный поезд был почти пуст. Через проход от Рахели женщина с усиками и шелушащейся кожей на щеках отхаркивала мокроту в бумажные фунтики, которые делала из воскресных газет, кипой лежавших у нее на коленях. Сверточки, которые у нее получались, она выкладывала аккуратными рядами на пустое сиденье напротив, словно для продажи. За этим занятием она болтала сама с собой приятным, успокаивающим голосом.
Память была похожа на эту женщину в поезде. Безумна в том, как она перебирала в своей кладовке темные вещицы и выхватывала самое неожиданное – беглый взгляд, ощущение. Запах дыма. Автомобильные «дворники». Мраморные материнские глаза. И совершенно разумна в том, как она оставляла огромные области затемненными. Невспомянутыми.
24
Парейян (барабанщик, кожевник), параван (рыбак), пулайян (стиралыцик) – обозначения низших каст внутри сословия неприкасаемых
25
Здесь иронически переосмыслены слова шекспировской Джульетты: «Что в имени? То, что зовем мы розой, / И под другим названьем сохраняло б / Свой сладкий запах!» (акт II, сцена 2).
26
Друг (малаялам).
27
Сюда, ко мне (малаялам).