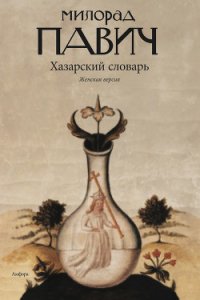Пейзаж, нарисованный чаем - Павич Милорад (читать хорошую книгу txt) 📗
Следующую ночь в Хилендаре Свилар спал. И сон его был целый, как горшок. Он только чувствовал, что руки настолько холодны, что от них стыло лицо, и во сне он держал подальше от головы свои ледяные пальцы.
Однако назавтра этот его сон вышел ему боком — уж лучше бы он провел бессонную ночь. Сенная лихорадка, пока он, уставший, спал себе, наяву делала свое дело. И она его сделала.
На Святой горе нет ни врачей, ни лечебниц, больные помещаются в отдельные кельи и получают своего рода отпуск по болезни и совсем немного помощи: молодые иноки готовят им еду или теплый напиток — кофе с лимоном и тому подобное. Там они прислушиваются к крохотному отрезку времени в себе и к тому огромному целому времени, что снаружи, и ждут. которое возьмет верх. Им еще дозволяется, что в Хилендаре, вообще-то, не было принято, завтракать. Так поступили и со Свиларом. Ему дали соты темного и твердого хилендарского меда, который ломается, м не мажется, и немного вина в ступе, настоянного на толченом черном перце.
В тот, третий, день он в изнеможении сидел в старой, времен Неманичей, монастырской трапезной, которая смотрела на врата храма Введения Богородицы, и пил теплое вино вместо завтрака. Смазывал медом ноздри и разглядывал стену, расписанную сценами из жизни святого Саввы, основателя монастыря. Солнце входило в помещение и неспешно озаряло одну за другой эти картины из княжеской жизни, следуя от сцены смерти к рождению, потому что солнце всегда идет от смерти к рождению…
Завтрак закончился, когда в трапезную вошел крупный рыжий монах, весь словно бы проржавевший. Хотя Свилар и никогда не видел его, он сразу узнал отца Варлаама, того второго монаха, рекомендованного ему по приходе в обитель. Человек с глазами голубыми, словно напоенными морем и солью, стоял перед Свиларом подстриженный, без горшка на голове. Голос у него был такой зычный, словно он прибыл прямо с корабля. Глаза у монаха прикрывались, совсем как у птицы, нижними веками, ногти, заостренные и крепкие, источали непонятный запах, и еще у него были гнилые зубы, которые ужасно болели, и потому он непрестанно тихонько поскуливал. Когда он говорил, из глубин его огромного тела доносились необычные звуки, похожие на удаленное, будто из-под воды, кукареканье петухов, будоражащее его печень и легкие. Голову, словно рой мошкары, обволакивала перхоть, она осыпала плечи и покрывала волосы нимбом. В обуви отец Варлаам проделал отверстия, наподобие прорези для своих подслеповатых глаз, и при ходьбе было слышно, как его ногти, проросшие сквозь носки, царапали пол. На одну, левую, ногу он хромал, и она была словно смочена другим потом, чем правая, источая совсем иную вонь, похоже аммиачную и куда более сильную, чем ее напарница. Крепкий и страшно соленый пот разъел рясу у воротника и под мышками, а снизу же ее прожгло неиссушимое семя, которое он рассыпал на ходу, сжигая все, что орошал. Говорил он с трудом ворочая языком. Жил, ел, дышал и спал с превеликим усилием, словно сооружал пирамиду где-то внутри себя.
— Все они для мира погибли и в пустыне не спаслись! — изрек он и закинул прядь волос, словно привязывая ухо. — Я вспоминаю сорок первый год, когда пришел ваш отец сюда, ветра были сильные: одежды сдирали и до костей бичевали. По такому ветру и пришел ваш отец, майор Свилар, с двумя товарищами, пришли расхристанные, словно их вихрь принес. Теми раскаленными тропами столетиями никто не приходил в обитель, потому как здесь все дороги ведут к морю. Вот на границе их никто и не увидел. В монастыре их приняли, приютили и угощали, как всякого другого гостя, потому как для путника испокон веку здесь все бесплатно. Ваш отец, майор Свилар, был в бороде, густой, ровно мох, а голос имел столь внушительный, что его нельзя было заглушить. Сюда он приспел уже обученный церковному пению, ныне редкому и необычному, ибо не обучают этому в консерваториях, где осваивают лишь западный извод церковного песнопения. С нами, несколькими общинниками, которые жили в обители, он сразу сошелся и без усилий включился в нашу жизнь, хотя мы тогда не имели тут превосходства, а настоятель и все прочие были одиночниками, о чем вы, наверное, уже наслышаны. Ваш отец черпал вино, сдабривал его черным виноградом и переписывал монастырскую библиотеку, выискивая между страницами старых книг вложенные туда как закладки травы или цветы из семнадцатого и восемнадцатого веков, потому как его привлекали растения. Он брал росток, зажмурившись, и сажал в землю, стоя на коленках, в маленьком садике у ручья. После чего с еще большим удовольствием пел в церкви раннюю обедню.
Именно этот его удивительный голос, похоже, и стоил ему столь дорого. Как немецкие власти узнали, что на Святой горе находятся беглые офицеры, трудно сказать. Скорее всего те сами себя выдали. Думается, на последнем ночлеге перед Святой горой майор Свилар пренебрег осторожностью. Он был в местной церкви, слушал пение и, говорят, сказал:
— Кто от страха обмирает, у того душа умирает, — и прочистил горло, словно с небесной выси спустился его голос в храм, и запел он славянскую литургию во время греческой службы, так что даже глухие поняли, что это не болгарский распев и среди паствы на вечерне беглецы из Сербии. Это их и выдало. Немцы пришли по тому следу к нам в обитель и поставили тогдашнего настоятеля перед выбором — или Хилендар, или беглецы. Мы, общинники, боялись в равной мере и того, что сделают немцы, и того, как должен поступить настоятель. Ибо знали его натуру и природу отшельничества, к которому он принадлежал. Всем своим долгим воспитанием он был накрепко привязан к хилендарскому храму Введения Богородицы, к монастырю и всему в нем, и вообще у него не было выбора. Он не раздумывал ни минуты, ибо волосы под мышкой не суть ангельские крылья. Он признал, что в обители укрываются трое военных, беглецы из Югославии, что они офицеры, и уже когда выходил из комнаты, мы видели, как у него после того признания глаз вышел через пробор на темени. Сбегали мы в ночлежку, отыскали беглецов, спрятавшихся в брюхе огромной бочки, подстригли их, одели в монашеские рясы и проводили из монастыря.
Здесь монах подошел к Свилару и положил перед ним узелок. В нем Свилар нашел офицерский мундир своего отца, а в кармане — прядь отцовских волос с записочкой, где тридцать пять лет назад было написано: «Когда кто-нибудь осушит чашу, помяните Косту, не жалейте вино, оно — за меня».
— Что потом стало с беглецами, — продолжил монах рассказ, — не могу вам сказать. До ужина офицеров из Югославии не нашли, хотя немецкий капитан обыскал каждый уголок обители, заглядывал даже в большие часы в переходе. Сразу же отправил погоню, но, погибли ли офицеры от рук неприятеля, никто не знает, хотя все в монастыре слышали из леса выстрелы. Настоятель за трапезой в тот день долил ракии в вино капитана и смирился духом. Согласился с тем, что от него требовалось, и тем защитил монастырь. А найдены беглецы, нет ли — это уже, полагал он, не наше дело. Однако это было наше дело, потому что мы разжаловали настоятеля из-за его поступка. Наверное, он не поступил бы так, будь меньше привержен монастырю, я имею в виду ту, земную, часть монастыря. Ибо подлинный монастырь — не стены, но его святое братство в нас. Только отшельники так не думают, а беда настоятеля заключалась в том, что был он одиночкой. А у них как у кошек: девять змей убивает кошка, зато десятая — кошку.
С той поры бывший настоятель больше не останавливается в обители, а плутает по Святой горе, носит пояс и опанки задом наперед, чтобы сатана не узнал его, кидает камни впереди себя на дорогу и тем уведомляет о своем приходе, и тот, кто его не хочет встречать, может укрыться. Он служит литургии по церквам вместо занемогших монахов и только раз в году приходит сюда, в Хилендар, на водосвятие, на «Великую ачиасму» в ночь перед Богоявлением. Тогда он склоняется перед иконой Богоматери и шепчет:
— Все упование наше на Тя возлагаем, Мата Божия…