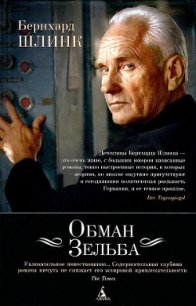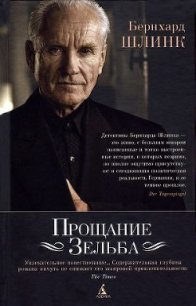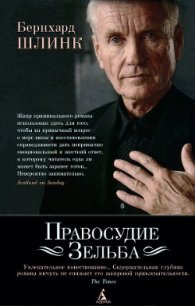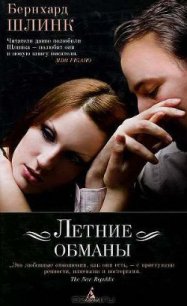Чтец - Шлинк Бернхард (книги без регистрации полные версии .txt) 📗
Несколько мгновений председательствующий ждал продолжения, затем спросил:
— Вы испугались? Испугались, что заключенные нападут на вас?
— Нападут?.. Нет, но как было навести порядок? Началась бы паника, мы бы с ней не справились. А если бы они решили бежать…
Председательствующий опять подождал, но Ханна так и не договорила фразу до конца.
— Вы боялись, что за непредотвращение побега вас арестуют, осудят и расстреляют?
— Мы были обязаны не допустить побега. Ведь мы отвечали за них… Все время охраняли их, и в лагере, и по пути. Мы охраняли их, чтобы они не убежали, это была наша работа. Поэтому мы и не знали, что делать. Не знали, сколько женщин останется в живых в ближайшие дни. Столько уже умерло, а остальные совсем ослабели…
Ханна чувствовала, что ее показания складываются не в пользу обвиняемых. Но она не могла вести себя иначе. Она могла только попытаться быть поточнее, объяснить все получше. Но чем больше она старалась, тем более усугубляла положение обвиняемых. Вконец растерявшись, она опять обратилась к председательствующему:
— А что бы вы сделали на нашем месте?
Но на этот раз она знала, что не получит ответа. Да она его и не ждала. Никто его не ждал. Председательствующий молча качнул головой.
Дело было не в том, что никто не мог представить себе той растерянности, беспомощности, о которой говорила Ханна. Ночь, холод, снег, пожар, крики женщин в церкви, исчезновение тех, кто отдавал приказы надзирательницам, — конечно, ситуация была сложной. Но может ли сложность ситуации хотя бы отчасти оправдать ужас случившегося, всего того, что было сделано или не было сделано обвиняемыми? Как если бы речь шла об автокатастрофе, произошедшей холодной зимней ночью, когда растерянный водитель стоит перед разбитой машиной, ранеными людьми и не знает, что предпринять. Или если бы речь шла о конфликте одного долга с другим? Так можно было бы представить себе то, о чем говорила Ханна, но никто не хотел этого делать.
— Это вы написали донесение?
— Мы все вместе решали, что написать. Мы не хотели, чтобы пострадали охранники, которые сбежали. Но не хотели и на себя брать вину.
— Вы сказали, что решали все вместе. А кто писал?
— Ты! — Толстуха вновь ткнула пальцем в сторону Ханны.
— Нет, я не писала. Разве важно, кто писал?
Прокурор предложил вызвать эксперта для сличения почерка обвиняемой с почерком, которым написано донесение.
— Мой почерк? Вы хотите сличать мой почерк?
Председательствующий, прокурор и защитник Ханны принялись спорить, изменяется почерк с течением времени или нет и можно ли идентифицировать его по прошествии стольких лет. Прислушиваясь к спору, Ханна становилась все более встревоженной, несколько раз она порывалась что-то возразить или спросить. Наконец она сказала:
— Не надо эксперта. Я признаю, что донесение написано мной.
10
Пятничных занятий нашего семинара я не помню. Я могу восстановить в памяти события судебного процесса, но совершенно забыл, как мы разбирали его с точки зрения юридической науки. Что мы обсуждали? Что хотели выяснить? Чему учил нас профессор?
Зато мне запомнились воскресные дни. Время, проведенное в суде, заново пробудило во мне тягу к природе, обострило вкус к ее краскам и запахам. По пятницам и субботам мне приходилось наверстывать упущенное за неделю занятий, чтобы не отставать от программы. Зато по воскресеньям я выбирался на прогулки.
Хайлигенберг, [56] церковь Святого Михаила, [57] Башня Бисмарка, [58] Дорожка философов, [59] берег реки — маршрут моих еженедельных прогулок почти не менялся. Мне хватало того разнообразия, которое я наблюдал в набирающей с каждой неделей силу зелени, в видах рейнской долины, то подрагивающей в жарком мареве, то покрытой поволокой дождя под темными грозовыми облаками; в лесу я наслаждался запахом ягод и трав, особенно душистых на солнцепеке, и ароматом земли, прошлогодней прелой листвы, особенно пахучей после ливней. Да мне и не нужно большого разнообразия. Достаточно, если очередная вылазка заведет меня чуть подальше, чем предыдущая, а в отпуске я предпочитаю возвращаться в те места, где уже побывал раньше, если мне там понравилось; когда-то мне казалось, что необходимо затевать смелые путешествия, и я заставлял себя ехать на Цейлон, в Египет или Бразилию, но со временем опять отдал предпочтение знакомым местам, чтобы познакомиться с ними еще ближе. Здесь мне видно больше, чем там.
Мне удалось отыскать в лесу поляну, на которой я разгадал тайну Ханны. У этой поляны не было ничего особенного, например какого-либо диковинного дерева или камня, отсюда не открывался какой-либо интересный вид на город или долину, не было ничего, что могло бы породить цепочку неожиданных ассоциаций. Из моих размышлений о Ханне, которые двигались из недели в неделю по одному и тому же кругу, одна мысль как-то выделилась, пошла по собственному пути и привела меня к определенному результату. Эта мысль работала сама по себе и сама додумала себя до конца, что могло случиться где угодно, точнее — в любом месте, где привычность окружения или обстановки позволяет уловить и воспринять ту неожиданность, которая не возникает извне, а вызревает изнутри. Это произошло на тропинке, которая круто лезет в гору, пересекает дорогу, минует колодец, проходит меж старых, высоких, тенистых деревьев и приводит к светлой полянке.
Ханна не умела читать и писать.
Поэтому она и просила, чтобы ей читали вслух. Поэтому она сорвалась во время нашей велосипедной вылазки, когда, обнаружив утром в гостинице мою записку, поняла, что я буду ждать от нее поведения, соответствующего содержанию записки, и испугалась разоблачения. Поэтому она уклонилась от предложенного повышения по службе в трамвайном депо — будучи кондуктором, она могла скрыть неграмотность, которая непременно обнаружилась бы на курсах вагоновожатых. По этой же причине она отказалась от повышения на заводе Сименса и стала надзирательницей. Поэтому же она согласилась на суде взять на себя ответственность за написание донесения — ей не хотелось разбираться с экспертом. Может, поэтому она и навредила себе показаниями на процессе? Ведь она не сумела прочитать ни книгу о лагере, ни текст обвинения, то есть не увидела там шансов для собственной защиты, лишилась возможности соответствующим образом к ней подготовиться. Не потому ли она отправляла в Аушвиц своих подопечных? Не было ли это способом заставить замолчать тех, кто мог что-то заметить? И не потому ли она опекала именно самых слабых?
Было ли это подлинной причиной? Я мог понять, что она стыдилась своей неграмотности, а потому предпочитала даже обижать меня, лишь бы правда не вышла наружу. Я по себе знал, что стыд может стать причиной скрытности, защитной реакции, странностей в поведении и даже агрессивности. Но был ли стыд Ханны истинной причиной ее странного поведения на судебном процессе и в лагере? Неужели она могла пойти на преступление из страха, что ее уличат в неграмотности? Преступление из страха быть уличенной в неграмотности?
Сколько раз я задавал себе тогда и потом эти вопросы. Если поступки Ханны диктовались боязнью разоблачения, то почему она побоялась быть уличенной в сокрытии своей неграмотности, этом сравнительно небольшом обмане, и не испугалась, что ее обвинят в чудовищном преступлении? Неужели она попросту рассчитывала, что ей удастся все скрыть и во всем оправдаться? Может, она была просто глупа? Или столь непомерно честолюбива, что предпочла, чтобы ее объявили преступницей, лишь бы не раскрылся обман?
И тогда, и потом на все эти вопросы я отвечал себе — нет. Ханна не хотела становиться преступницей. Ей пришлось отказаться от повышения на заводе Сименса, из-за чего она сделалась надзирательницей. Нет, она не посылала самых слабых девушек в Аушвиц потому, что те ей читали; наоборот, она выбирала их для чтения потому, что хотела скрасить им последний месяц, и потому, что их все равно отправили бы в Аушвиц. Нет, на судебном процессе Ханна не выбирала между уличением в неграмотности и изобличением в качестве преступницы. Она не хитрила, не выдумывала тактических уловок. Она была готова отвечать за свою вину, но не хотела быть сверх того еще и уличенной. Она не столько преследовала собственные интересы, сколько боролась за истину, за справедливость. Но ей все-таки приходилось что-то скрывать, она не была до конца откровенной, не могла вполне быть самой собой, а потому и истина получалась ущербной, и ущербной становилась справедливость, но это были ее истина и ее справедливость, за которые она боролась.
56
Хайлигенберг — живописная гора на правом берегу Неккара.
57
Церковь Святого Михаила — руины церкви IX в., одна из главных исторических достопримечательностей на горе Хайлигенберг.
58
Башня Бисмарка — так обычно называются в немецких городах и пригородах башни со смотровыми площадками, откуда открываются наиболее красивые виды на окрестности; в Гейдельберге она была сооружена в 1900 г.
59
Дорожка философов — устроенная в 1817 г. на склонах правого берега длинная прогулочная дорожка-променад с многочисленными скамейками, беседками и мемориальными указателями, посвященными бывавшим здесь «гейдельбергским романтикам».