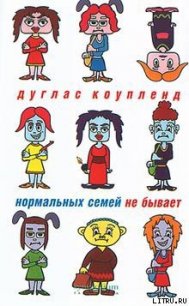Жизнь после Бога - Коупленд Дуглас (книги без сокращений TXT) 📗

Проехав еще самое большее милю, мы увидели на скалистом гребне двух баранов-толсторогов, с трудом спускавшихся по каменистой осыпи. Мы снова остановились и вышли из машины. И хотя было ужасно холодно — высокогорье, — наблюдали за этими созданиями, пока они тоже не исчезли в родном лесу.
Мы ехали дальше, притихнув, пытаясь осмыслить, что значит появление этих животных в нашей жизни? Что означали олени? Что означали толстороги? Почему одни создания кажутся нам привлекательными, а другие нет? Что они вообще такое, эти создания?
Я стал вспоминать, кто нравится мне. Мне нравятся собаки, потому что они всегда любят одного и того же человека. Твоей матери нравятся кошки, потому что они знают, чего хотят. Мне кажется, что будь кошки вдвое крупнее, их, скорей всего, запретили бы держать дома. Но собаки, будь они даже в три раза крупнее, все равно оставались бы добрыми друзьями. Сама прикинь.
Сейчас тебе нравятся все животные, хотя, конечно, рано или поздно ты выберешь себе любимцев. В тебе восторжествует собственная природа. Каждый из нас рождается самим собой. Когда ты выскользнула из материнского живота, я заглянул тебе в глаза и понял, что ты — это уже ты. И, мысленно возвращаясь назад, окидывая взглядом свою жизнь, я осознаю, что моя собственная природа — моя суть — в основном не изменилась за все эти годы. Когда я просыпаюсь, то несколько мгновений, пока не вспомню, кто я и что я, чувствую себя точно так же, как когда мне было пять. Иногда я думаю, можно ли вообще изменить человеческую природу или мы привязаны к ней так же прочно, как собака к любимой косточке или кошка к ловле мышей.

Мы остановились пообедать в городке Меррит, в Курятнике». Ты взяла с собой книжку — почитать, пока мои покрасневшие глаза бегали взад-вперед по строчкам «Вестей со всего света» — так елозят палочкой по шершавой мостовой.
Потом двинулись дальше. Небо отливало лавандовой голубизной, а туманы над горными пиками напоминали мир на стадии замысла. Мы врезались в туманную завесу над долиной, словно погружаясь в прошлое.
Перевалив через холм, мы спустились в другую долину и увидели стаю точно застывших в капле янтаря безымянных птиц, плавно опускавшихся в глубину каньона. Затем и мы спустились в каньон, где не было ни жилья, ни звуков — только мы и дорога, — и пошел снег, и солнце почти совсем село, а мир стал млечно-белым, и я сказал: «Не дыши», и ты спросила: «Зачем?», и я ответил: «Потому что мы вступаем в начало времен». И так оно и было.

Время, Малыш; так много, так много времени осталось до конца моей жизни, что иногда я с ума схожу от того, как медленно тянется время и как быстро стареет мое тело.
Но я не позволяю себе думать об этом. Мне приходится напоминать себе, что время страшит меня только тогда, когда я думаю, что мне придется проводить его в одиночестве. Иногда просто страшно, сколько моих мыслей устремлено на то, чтобы собраться с силами, перед тем как провести ночь в комнате одному.

Той ночью мы остановились в мотеле в Кэмлупсе, на полдороге к цели. У меня просто не было больше сил сидеть за рулем. Только мы успели устроиться, как разыгралась настоящая драма: мы забыли твою книжку «Кот-Обормот» д-ра Зюсса в «Курятнике». Ты заявила, что не ляжешь спать, пока я не расскажу тебе сказку, так что, несмотря на усталость, мне пришлось импровизировать, в чем я не очень силен. Я начал говорить первое, что пришло мне в голову, и рассказал тебе сказку про Очковую Собаку.
— Очковую Собаку? — спросила ты.
— Да… Очковую Собаку… ну, собаку, которая носит очки.
Тогда ты спросила, а что она делает, Очковая Собака, но мне не удалось придумать ничего, кроме того, что она носит очки.
Ты не отставала, и тогда я сказал:
— Очковая Собака должна была стать главным героем всех книжек серии «Кот-Обормот», вот только…
— Только что? — спросила ты.
— Только вот она сильно выпивала, — ответил я.
— Ну в точности как дедуля, — сказала ты, довольная, что тебе удалось связать сказку с реальной жизнью.
— Вроде того, — ответил я.

Потом ты захотела услышать про других животных, и я спросил, слышала ли ты когда-нибудь о белке Орешкине, и ты ответила, что нет.
— Так вот, — сказал я, — Орешкин собирался устроить выставку ореховой живописи в Художественной галерее в Ванкувере, вот только…
— Только что? — спросила ты.
— Вот только у Орешкина родились бельчата, и ему пришлось устроиться работать на фабрику, где из орехов делали ореховое масло, и так никогда и не удалось закончить свою работу.
— А-а… Я помолчал.
— Хочешь послушать про каких-нибудь других животных?
— Можно, — несколько уклончиво ответила ты.
— Ты когда-нибудь слыхала о киске Хлоп-хлопке?
— Нет.

— Так вот, киска Хлоп-хлопка собиралась стать кинозвездой. Но она прозвонила столько денег по своей кредитной карточке, что ей пришлось устроиться кассиршей в Канадском банке в Гонконге, чтобы расплатиться по всем счетам. Скоро она стала просто слишком старой для звезды, а может, у нее пропало желание, или и то и другое. И она поняла, что проще сказать, чем сделать, и…
— И что дальше? — спросила ты.

— Ничего, малыш, — сказал я, решительно останавливаясь, потому что вдруг ужасно испугался, что рассказал тебе про всех этих животных, забил тебе голову всеми этими историями — историями обо всех этих малых созданиях, таких прелестных, которые все должны были попасть в сказку, но растерялись по дороге.
Гостиничный год

Это было давно. Я попал в полосу тягостных раздумий и довольно сумбурно оборвал большую часть своих связей с прошлым. Я переехал в гостиничный номер на Грэнвилл-стрит, где оплату брали понедельно и вода текла только холодная, постригся наголо, перестал бриться и вытатуировал на правом предплечье терновый венец. Целыми днями я валялся на кровати, уставившись в потолок, прислушиваясь к пьяным скандалам в чужих комнатах, воплям чужих телевизоров и звону осколков чужих зеркал. Соседи мои представляли собой смесь пенсионеров, переселенцев, торговцев наркотиками и так далее. Все эти статисты создавали уместно-изысканный фон для моей веры в то, что бедность, страх смерти, облом в сексуальной жизни и неспособность общаться с окружающими приведут меня к некоему Озарению. Я был преисполнен любви — только никто в ней тогда не нуждался. Мне казалось, что я нахожу утешение в одиночестве, но если честно, то я с каждым днем приобретал Вид все более законченного горемыки.