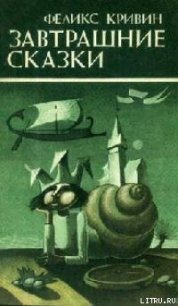Ходить – ходьба, судить – судьба - Кривин Феликс Давидович (бесплатные версии книг TXT) 📗
Василий Васильевич неважно себя чувствовал, и ему, конечно, хотелось узнать, что там у него внутри.
На примере каждого человека подтверждается теория о расширяющейся и сжимающейся вселенной. Рождается он, можно сказать, из пустяка, из пустого места, а потом все расширяется, расширяется, пока не дорастет до взрослого состояния. И тут, в соответствии с теорией, он начинает сжиматься, – конечно, не без влияния жизни, которая ставит его в такие условия. Именно в этом периоде сжатия возникают внутри человека различные болезни, которые вступают в противоборство с высокоразвитыми цивилизациями. Трудно себе представить, сколько темноты, невежества, мракобесия носит в себе даже самый просвещенный человек, какой-нибудь доктор прав, профессор юриспруденции. В обычной жизни он ведет себя как доктор прав, но вдруг что-то такое случится – и в нем заговорит первобытная, обезьянья, ящеровая микроцивилизация, которую и цивилизацией-то нельзя назвать, – вот тогда посмотрите на этого доктора и юриспрудента!
И тут возникло время. Оно возникло на площади в виде многочисленных часов, каждая грань которых представляла собой циферблат со своим собственным, индивидуальным временем. Когда циферблат один, стрелки должны пошевеливаться, потому что вынуждены рассчитывать только на себя. А когда для любого часа, для любой минуты отдельный циферблат, стрелки могут расслабиться, никуда не спешить, у них одна забота – постоять за себя, чтобы не потерять свое место. Время и место в этом случае сливаются в одно, и уже не отличишь, чему ты служишь: своему месту или своему времени.
Под часами на часах стоял часовой. Он равнодушно разглядывал прохожих, но вдруг широко раскрыл рот и завопил: «Василиса! Ты опять одета из зарплаты Васильченко!»
Та, которую он назвал Василисой, была одета несколько самонадеянно, но держалась безапелляционно.
«Разве так оденешься на зарплату Васильченко? Так оденешься только на зарплату Василюги», – откликнулись женщины, знавшие в этом деле толк.
«Василюга? – забеспокоился часовой. – Василиса, почему Василюга?» Тут же он стал объяснять, что у него такая служба, что на этой службе он не может никого одеть и даже сам одевается за счет государства. А у Васильченко каждый день живая копейка, у Василюги живая десятка, но живая десятка, учтите, это не любовь.
И тут прозвучала команда: «От инкубария до колумбария – не сбавляя шага!»
И сразу стало ясно, что на площади исключительно бройлерное население. Часовой – бройлер, девушка – бройлярышня, и от всех почему-то пахло бульоном. Может быть, где-то поблизости была столовая.
Перед инкубарием, в котором воспитанники приучались к государственному теплу, заменявшему им тепло родительское, молодые бройлеры проводили тренировочный парад в честь сбора урожая укропа и петрушки. Директор инкубария, демонстрируя директору колумбария его будущих питомцев, то и дело задавал им вопрос: в чем преимущество сковородочного, то есть открытого образа жизни, перед закрытым, кастрюльно-духовочным. Ответы были разные. Говорили, что на сковородке – как на пляже в летний сезон. Что здесь можно открыто шипеть и шкварчать, а в кастрюле можно только булькать.
Не все соглашались, что в кастрюле можно свободно булькать. Булькать – да, но свободно – нет. А вот шкварчать и шипеть – это можно совершенно свободно.
Директор насторожился: «Кто сказал: шипеть и шкварчать? Главное не это, вы скажите самое главное!»
Самого главного никто, конечно, не знал. «Самое главное, – сказал директор, – мы наконец-то научимся краснеть и даже покрываться румяной корочкой».
Василий Васильевич двинулся по улице дальше. Два бройлера у пивного ларька беседовали на экономические темы: о том, как довести общественные блага до широких масс через узкие распределители. Распределители слишком узки, а массы слишком широки. Тема разговора была подсказана, видимо, тем, что тут же, рядом с ларьком, проходила городская бройлерная конференция.
Двери и окна конференц-зала были плотно закрыты, у всех возможных отверстий были выставлены посты, а для наблюдения оставлены лишь немногие смотровые щели. Василий Васильевич как раз и воспользовался одной из них для наблюдения за ходом конференции.
Делегаты-бройлеры были совершенно неотличимы друг от друга по своим размерам, упитанности, а также убеждениям и жизненным целям. Было непонятно, как удалось отделить от общей массы небольшую часть, чтобы, усадив ее в президиуме, противопоставить остальному залу. Даже докладчик ничем не отличался. Когда он что-то вычитывал из доклада, то клевал носом точно так же, как остальные клевали, его слушая.
Из доклада Василий Васильевич понял, что сидящие в зале стремятся к открытому обществу, но это у них пока не получается. И тем не менее уже говорилось открыто, что закрытое кастрюльное общество отжило свой век и только раскастрюленность сулит новые перспективы.
Доклад был окончен. Аудитория дружно спала, как-то странно дергаясь во сне и выбрасывая руки вверх, что, очевидно, обозначало голосование. Василий Васильевич поспал со всеми, а когда проснулся, аудитория клевала кого-то, обвиняя его то ли в раскастрюленности, то ли в сковородочности, о которой позволено только мечтать, потому что она – наше будущее, а мы пока что живем в настоящем.
«Пусть Вассерман скажет! Пусть Вассерман объяснит!» – кричали в зале, и Василий Васильевич сообразил, что клюют именно Вассермана.
Это его не удивило. Подумаешь – невидаль какая, – клюют Вассермана! Но потом он заволновался: откуда в нем взялся Вассерман? По звучанию это близко: Василий – Вассерман, – но корни тут разные, ничего общего между собой не имеют.
Было неприятно обнаружить в себе Вассермана. Уж не подхватил ли он его где-нибудь в очереди или в трамвае? Кто-нибудь чихнул или кашлянул… Интересно, передается ли это инфекционным путем, или только по наследству?
Между тем в конференц-зале Вассермана продолжали клевать. А он и не сопротивлялся. Он только дергался, как при голосовании, и поднимал две руки, показывая, что он двумя руками за, то есть больше за, чем были сами клевавшие.
Но это на них не действовало. У них был самый клев, и они клевали до тех пор, пока совершенно его не склевали.
Потом все опять погрузились в сон, и Василий Васильевич с ними поспал, зорко прильнув к смотровой щели. А когда проснулся, у них опять начинался клев: клевали тех, кто клевал раскастрюленного. Этот раскастрюленный отстаивал открытый способ приготовления, и пока его клевали, этот открытый способ восторжествовал, поэтому теперь искали кастрюльщиков, которые его заклевали.
И тут выяснился невероятный факт: оказывается, в зале сидели одни сковородочники. Где они были раньше? Ведь не могло же быть так, чтобы сковородочники заклевали сковородочника, поэтому они продолжали искать, клюя то одного, то другого для пробы и отчаянно переклевываясь. При этом они говорили: «Где-то здесь должен быть Вассерман! Это все Вассерман! Вы не видели Вассермана?» – забыв, что Вассермана они еще раньше склевали.
Начинался большой клев. Но какой клев без Вассермана?
Кажется, Вассерман была фамилия Капитана…
Пока Капитан Вассерман (а может быть, и не Вассерман) находился в своем сухопутном плавании, в его квартире появился сантехник, потому что там не работал сливной бачок. Сантехник его исправил и ушел, но вскоре опять пришел, потому что бачок снова испортился. Они словно соревновались: один все портился и портился, а другой все приходил и приходил. Видя, что с бачком бороться бесполезно, сантехник насовсем поселился в квартире и стал уже не сантехником, а просто дядей Гришей, жильцом, выполнявшим, однако, обязанности сантехника. Соседи – каждый в отдельности – осуждали жену Капитана, но все вместе одобряли, потому что бачок работал хорошо.
А потом вдруг жена Капитана получила извещение, что муж ее, Капитан, находится в какой-то клинике, и она, если хочет, может его забрать. Клиника была такая, что жена не сразу решилась Капитана забрать, да и соседи не советовали. Одни потому, что не хотели лишиться сантехника, другие потому, что Капитан побывал в таких местах, что это может повредить всей коммунальной квартире. Да и клиника такая, что лучше уж ему в ней остаться. Почему он не может жить в клинике?