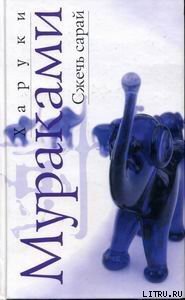К югу от границы, на запад от солнца - Мураками Харуки (электронная книга txt) 📗
Я быстро привык к Симамото. Раньше со мной такого не бывало. Меня не бил никакой мандраж — не то что с другими девчонками. Мне нравилось возвращаться с ней домой из школы. Она шла, слегка приволакивая ногу. Иногда присаживалась в парке на скамейку и немного отдыхала. Мне это было совсем не в тягость — скорее наоборот, я радовался, что есть время пообщаться еще.
Все больше времени мы проводили вместе. Не припоминаю, чтобы кто-то нас из-за этого дразнил. Тогда я не очень удивлялся, но сейчас это выглядит странновато. Ведь в таком возрасте стоит детям заметить, что какой-то мальчишка дружит с девочкой, они тут же начинают издеваться. Мне кажется, дело было в характере Симамото. В ее присутствии ребята испытывали легкое напряжение и не хотели выставлять себя дураками. Как бы поневоле думали: «Лучше при ней чепуху не молоть». Иногда, казалось, даже учителя не знали, как себя вести с Симамото. Может, из-за ее хромоты? Так или иначе, все, похоже, осознавали, что дразнить ее не годится, и мне это было приятно.
На уроки физкультуры Симамото не ходила и оставалась дома, когда мы всем классом отправлялись на экскурсии, в поход в горы или летний лагерь, где все занимались плаванием. Во время школьных соревнований ей, наверное, бывало не по себе, но во всем остальном у нее была самая обыкновенная школьная жизнь. О ноге она совсем не вспоминала — разговоров об этом, насколько я помню, не было ни разу. Никогда по дороге из школы она не извинялась, что идет медленно и задерживает меня, да и на лице ее неловкости я не замечал. Но я прекрасно понимал: она все время думает о своей ноге и именно потому избегает этой темы. Симамото не очень любила ходить в гости к другим ребятам — там ведь надо снимать обувь, а на ее туфлях разные каблуки — один немного выше другого, да и сами туфли друг от друга отличались, — и она не хотела, чтобы кто-то это видел. Туфли ей, должно быть, делали на заказ. Я обратил на них внимание, когда заметил, что у себя она в первую очередь снимает туфли и старается побыстрее убрать их в шкаф.
В гостиной у Симамото стояла новенькая стереосистема, и я часто заходил к ней послушать музыку. Система была очень приличная, чего не скажешь о пластинках, которые собирал ее отец. Их оказалось штук пятнадцать, не больше — в основном, легкая классическая музыка для неискушенных любителей. Мы слушали их бесчисленное множество раз, и я до сих пор не забыл ни одной ноты.
Пластинками занималась Симамото. Доставала диск из конверта и, держа его обеими руками, не касаясь поверхности, ставила на проигрыватель. Потом, смахнув щеточкой пыль со звукоснимателя, плавно опускала на пластинку иглу. Когда сторона заканчивалась, Симамото прыскала на нее спреем и протирала мягким лоскутком. В завершение пластинка возвращалась в конверт и водружалась на свое место на полке. Симамото научилась этим операциям у отца и выполняла их с ужасно серьезным видом, сощурившись и почти не дыша. Я сидел на диване и наблюдал за ней. И лишь когда пластинка оказывалась на полке, Симамото поворачивалась ко мне, чуть улыбаясь. Всякий раз мне приходило в голову, что она держит в руках не пластинку, а чью-то хрупкую душу, заключенную в стеклянный сосуд.
У меня дома не было ни проигрывателя, ни пластинок. Родители музыкой не интересовались, поэтому я слушал у себя в комнате радио — маленькую пластмассовую «мыльницу», принимавшую только средние волны. Больше всего мне нравился рок-н-ролл, но я быстро полюбил и классику, которую мы слушали у Симамото. То была музыка из «другого мира», она притягивала меня — возможно, потому, что к этому миру принадлежала моя подружка. Раз или два в неделю после обеда мы заходили к ней, сидели на диване, пили чай, которым угощала нас ее мать, и слушали увертюры Россини, бетховенскую «Пасторальную» симфонию и «Пер Гюнта». Мамаша была рада, что я приходил к ним. Еще бы! Дочка только-только пошла в новую школу, а у нее уже приятель появился. Тихий, всегда аккуратно одет. Сказать по правде, старшая Симамото не сильно мне нравилась. Сам не знаю, почему. Со мной она всегда была приветлива, но иногда в ее голосе звучали нотки раздражения, и временами я чувствовал себя не в своей тарелке.
Среди пластинок отца Симамото у меня была любимая — концерты Листа для фортепиано. По одному концерту на каждой стороне. Любил я ее по двум причинам. Во-первых, у нее был очень красивый конверт. А во-вторых, никто из моих знакомых — за исключением Симамото, разумеется, — фортепианных концертов Листа не слушал. Сама эта мысль волновала меня. Я попал в мир, о котором никто не знает. Мир, похожий на потайной сад, куда вход открыт только мне одному. Слушая Листа, я чувствовал, как расту над собой, поднимаюсь на новую ступеньку.
Да и музыка была прекрасная. Поначалу она казалась мне вычурной, искусственной, какой-то бессвязной. Но я слушал ее раз за разом, и понемногу мелодия стала складываться в моей голове в законченные образы. Так бывает, когда смутное изображение постепенно обретает перед вашим взором четкие очертания. Сосредоточившись и зажмурив глаза, я мысленным зрением наблюдал бурлящие в этих звуках водовороты. Из только что возникшей водяной воронки появлялась еще одна, из нее тут же — третья. Сейчас я, конечно, понимаю, что эти водовороты были отвлеченной абстракцией. Мне больше всего на свете хотелось рассказать о них Симамото, однако объяснить нормальными словами то, что я тогда ощущал, было невозможно. Для этого требовались какие-то другие, особые слова, но таких я еще не знал. Вдобавок у меня не было уверенности, что мои ощущения стоят того, чтобы о них кому-то рассказывать.
К сожалению, память не сохранила имени музыканта, игравшего Листа. Запомнились только блестящий красочный конверт и вес на руке — пластинка непостижимым образом наливалась тяжестью и казалась необычайно массивной.
Вместе с классикой на полке у Симамото стояли Нат Кинг Коул и Бинг Кросби. Мы ставили их очень часто. На диске Кросби были рождественские песни, но они шли хорошо в любое время года. И как только они нам не надоедали?
Как-то в декабре, накануне Рождества, мы сидели у Симамото в гостиной. Устроились, как обычно, на диване и крутили пластинки. Ее мать ушла куда-то по делам, и мы остались в доме одни. Зимний день выдался пасмурным и мрачным. Солнечные лучи, с трудом пробиваясь сквозь низкие тяжелые тучи, расчерчивали светлыми полосами пылинки в воздухе. Время шло; все, видимое глазу, потускнело и застыло. Надвигался вечер, и в комнате уже стало совсем темно — прямо как ночью. Свет никто не включал, и по стенам растекалось лишь красноватое свечение керосинового обогревателя. Нат Кинг Коул пел «Вообрази». Английских слов песни мы, конечно, не понимали. Для нас они звучали как заклинание. Но мы полюбили эту песню, слушали ее снова и снова и распевали первые строчки, подражая певцу:
Теперь-то я, понятное дело, знаю, о чем эта песня. «Когда тебе плохо, вообрази, что ты счастлива. Это не так трудно». Эта песня напоминала мне ту улыбку, что постоянно светилась на лице Симамото. Что ж, правильно в песне поется — можно и так к жизни относиться. Другое дело, что иногда это очень тяжело.
На Симамото был голубой свитер с круглым воротом. Я помню у нее их несколько, одинакового цвета: похоже, голубой ей нравился больше прочих оттенков. А может, голубые свитеры просто шли к темно-синему пальто, в котором она все время ходила в школу. Из-под свитера выглядывал воротничок белой блузки. Клетчатая юбка, белые хлопчатобумажные чулки. Мягкий обтягивающий свитер выдавал едва заметные припухлости на груди. Симамото устроилась на диване, поджав ноги.
Облокотившись о спинку дивана, она слушала музыку, глядя куда-то вдаль, словно рассматривала одной ей видимый пейзаж.
— Правда, говорят, что если у родителей только один ребенок, значит, у них отношения не очень? — вдруг спросила она.
2
Искаженные слова песни классика американской эстрады Ната Кинга Коула (1917-1965) «Вообрази»: «Pretend you're happy when you're blue / It isn't very hard to do».