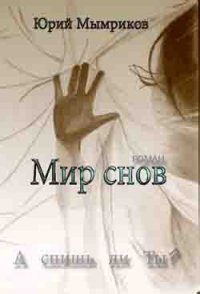Улица Грановского, 2 - Полухин Юрий Дмитриевич (читаем книги онлайн без регистрации TXT) 📗
Пока я читал, подошел сзади Токарев и заглянул через мое плечо. Как-то по-домашнему он это сделал, и я подумал: «Может быть, самое страшное в этой докладной не ее конкретность, не желание автора констатировать происшедшее с предельной достоверностью, а что-то иное: может, канцелярские обороты под пером человека ужаснувшегося – «пересланная докладная… дает повод», «подойдя вплотную к яме», «на что тот ответил с улыбкой»… Ну да, командир полка, старый служака! – он выводил это на бумаге механически. Но они-то, стертые штампы канцеляриста, и перекликались с обычностью происходившего в городе Сурине и независимо от желания автора приоткрывали второе дно под его словами, этакую жуть безмерности, безостановочности человеческого падения, – лети себе, скользя по обкатанным фразам!..»
Я читал дальше:
«Для меня не имеет значения, на основании каких судебных приговоров проводились эти расстрелы, но я считаю несовместимым с существовавшими у нас до сих пор взглядами на воспитание и нравственность, когда совершенно публично, как бы на открытой сцене, осуществляется массовый убой людей…»
«Он что, с луны упал? – подумал я уже с раздражением. – «Несовместимым с существовавшими у нас до сих пор взглядами на воспитание и нравственность»!..
Или не понимал: убой такой и проводился прежде всего в целях воспитательных, утверждал полицейскую нравственность, нисколько не противореча ей?.. Но возможна ли была такая инфантильность у командира полка?
«Я ему уже вогнал семь пуль в живот, он теперь сам должен подохнуть», – слова, сказанные с улыбкой…
Или не видел до тех пор командир полка такую вот улыбку, в которой радость сознания собственной безнаказанности, а значит, всемогущества гасит даже неловкость за собственную же неумелость, неряшество?..
И еще что-то в этой улыбке… Пожалуй, вот что: поверженная, но несломленная сила других будит лишь мысли об их звероподобности, психологической неполноценности, – старик чудак, с семью-то пулями в животе, и не жалуется, и ничего не просит, а только сжимает палку в руке. Право, чудак, недочеловек, которого перечудачить может только само время: уж оно-то его добьет неизбежно».
И тут Токарев сказал:
– А я знал его. Вернее, не знал: видел однажды, – и голос его прозвучал жестко.
Я подумал: это – от боли за старика. И спросил:
– Он остался в живых?
– Кто?
– Как кто? Старик!
Докладная заключалась лаконичным абзацем:
«Припоминаю также, что по рассказам солдат, которые часто видели эти казни, таким способом ежедневно расстреливалось много сотен людей».
Токарев сказал, теперь уже – совсем буднично:
– Да нет, я – про этого майора. Труммера. Я его видел.
И тут я прочел подпись под докладной: «Майор Труммер, 16 октября 1943 года».
– Труммера? – переспросил я.
– Да, командира триста пятьдесят восьмого пехотного полка. И если не ошибаюсь, – как раз в начале октября сорок третьего. Он однажды пришел к нам, в комендатуру, в концлагерь. Далеко от Сурина: в Померании. Всего лишь однажды, – Токарев будто выталкивал слова из себя. – Но я запомнил, потому что Труммер по отцу – русский, и выяснилось, брат Труммера – биолог Панин, мой друг по лагерю.
– Как брат? Ничего не понимаю!
Но Токарев взмахнул рукой, как бы обозначив невидимую черту между нами, и голос его стал обычно насмешливым.
– Ну, это – тонкая история, о ней мало кто знает…
Панин, между прочим, живет в Москве, и если вам интересно… Не мне о том говорить. Лучше – давайте о деле.
Это прозвучало так: «не с вами о том говорить».
И он стал рассказывать мне об экипаже большого шагающего экскаватора – историю, из-за которой меня и командировали сюда, в Сибирь, на стройку.
О том, что Токарев четыре года пробыл в немецком концлагере и чуть ли не возглавлял там подполье, я уже слышал. Не удивило меня и это его нежелание говорить о прошлом. Я как-то редактировал документальную повесть, написанную для нашей газеты тоже бывшим узником немецких концлагерей, встречался с ним, с его товарищами и невольно заметил: почти все они не любят вспоминать или, во всяком случае, говорить вслух о военных годах. Один из них мне сказал: «Зачем вспоминать? Чтобы услышать слова сочувствия, которые не могут стать действием? Одним сочувствием тут ничего не измерить, бывает, и оно может стать оскорбительным!..»
Но теперь я смотрел на книжку, на увядшие ее страницы, чуть-чуть тронутые желтизной, на буквочки, вытянутые, каждая отдельно от другой, набранные боргесом, шрифтом, который не экономит бумагу и который поэтому так легко читать, – обычное свидетельство, их перевидал сотни, они наслаиваются одно на другое, ничего не добавляя к давным-давно пережитому. Так, нечто абстрактное, не относящееся к тебе самому, занумерованный документ из стойбища ему подобных, оленье стадо, огибающее тебя на бегу полукругом, дробот тысяч копытец, тревога, но и уверенность в себе, – человека олени обойдут, обогнут, расступятся, и ты – на особицу. Но тут-то вдруг я сам почувствовал себя оленем, которого выловил изо всего стада пастух, издали ловко набросил чаут-аркан – на рога и повалил резко на землю: я лежу на спине, и ноги – моя опора, спасение – бесшумно бьют по воздуху, а я дышу прерывисто.
Документ касался живых, вполне реальных людей: вот один из них передо мной сидит, – цеплял документик и Токарева, а значит – меня?..
Я перечитал начало письма: «Пересланная мне докладная обер-лейтенанта Бассевица и лейтенанта Мюллер-Бродмана дает повод изложить следующее…»
Ну да! «Пересланная мне»! – так бы и стали они пересылать ему сами эту свою докладную, если б он не потребовал от них засвидетельствовать увиденное: он – их командир полка, и они не посмели его ослушаться, поэтому и переслали. Наверняка ему и надо было всего лишь найти, изобрести повод, чтоб высказаться самому… Но зачем? Думал переубедить кого-то там, наверху, остановить «массовый убой» людей?
Чепуха, конечно!
Токарев рассказывал свое, но я перебил его:
– А что ему надо было, Труммеру, в лагере? Зачем он пришел?
Опять этот жест и усмешка.
– Об этом – спросите у Панина. Москва, улица Грановского, два. Теперь он, глядишь, и расскажет. Хотя должен предупредить, он – не из разговорчивых и раньше мог молчать месяцами. Труммер будто бы предлагал Панину выйти из лагеря. Или бежать?.. А тот отказался. Уж такой он…
– Грановского, два? Это позади старого здания МГУ? Университетский, профессорский дом?
– Вот-вот. Знакомый?
Я учился в МГУ и конечно же знал все соседние дома. А однажды специально обошел их все, облазил, – когда прочел, что именно на этом месте в XVI веке Иван Грозный построил свой опричный двор, особый от земщины. Правда, всего лишь и осталось от того времени – подвал, в котором теперь подсобка университетской типографии.
Знакомый… И фамилию Панина я, кажется, слышал раньше. Но пока не стал говорить об этом Токареву.
Только кивнул в ответ. А Михаил Андреевич встал изза стола, видно тоже взволнованный совпадением, заходил между книгами. Ноги его, большие, как и весь он, ступают с осторожной упругостью, – он легко носит по земле свое тело, которое уже становится громоздким.
Я его зову про себя «Охотником». Он может пока не обращать внимания на это тело и на резиновые сапоги, стоящие сейчас в передней, в углу, у порога, и лоснящиеся, неглаженые, должно быть, ни разу брюки, и пиджак, собравшийся у бортов газырями от того, что не раз промокал в нем Токарев до нитки, – одежка, удобная и в солнце, и в непогодь, и в пыльном забое экскаватора, и в темном чреве патерны, которая бетонным жерлом своим пронзила плотину; с круглой кровли патерны всегда сочится по стенам вода и хлюпает под ногами, как вот сейчас нудный дождь за ОКНОЛА – вразброд, неприкаянно…
Все-таки он чуть-чуть поддался на мои расспросы, рассказал:
– В сорок восьмом… ну да, в сорок восьмом – после этой сессии сельскохозяйственной знаменитой, я его вытащил к себе на Черное море. И пока он лечился – месяца полтора! – я из него слова не выжал… Правильно: в сорок восьмом. Я тогда еще в солдатах догуливал, в стройбате, пришел к начальнику санатория для высшего командного состава, полковнику, и заставил его вызвать Панина без путевки. Штатского!.. Да, вот так и пришел: в сапогах и в гимнастерке черной от пота, от масла машинного, – я тогда придумал полиспастом сдергивать в море семидесятитонные кубики для портового мола и не вылезал из-под трактора… Прекрасные были кубики, сытые, как кубанские свиньи, – на них я и выехал в гидротехники, и из солдат ушел.