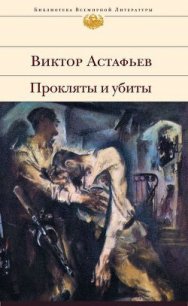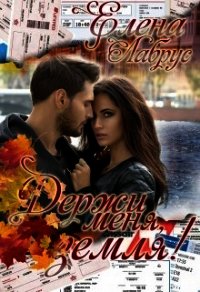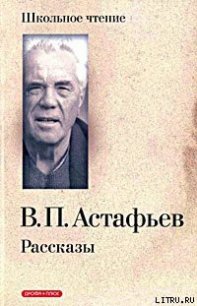Чертова яма - Астафьев Виктор Петрович (читаем книги онлайн бесплатно txt) 📗
Опытный вояка Яшкин, всего насмотревшийся на смертельных полях сражений, почувствовал неладное, нагнулся над Попцовым, схватил его за кисть, сжал пальцами запястье.
— Готов… — растерянно прошептал он. Рота молча обступила мертвого товарища. С немой оторопью смотрели ребята на умершего — к смерти они еще не привыкли, не были к ней готовы, не могли ее сразу постигнуть, значение происшедшего медленно доходило до них, коробило сознание ужасом.
Попцов, ко всему уже безразличный, лежал на перемешанной серой каше в куцей шинеленке, с как попало накрученными обмотками, меж витков обстеганных обмоток светились голые, в кость иссохшие ноги, на груди разошелся крючок шинели, обнажив залоснившуюся нижнюю рубаху. Гимнастерки на Попцове не было, он ее променял на картошку, когда рота ходила после октябрьских праздников на стрельбище. Зубы Попцова, давно, может и никогда не чищенные, неровные, наполовину сгнившие зубы обнажились. Из-под шлема серенькой пленкой начали выплывать вши.. Они суетились на остывающем лице, тыкались туда-сюда. Яшкин вспомнил, как его, тяжело раненного, в походном лазарете зараженного желтухой, везли по холмистой Смоленщине, и, видимо, вши пошли уже с него, но он чуял одну лишь, крупную, как лягуша, липкую, — она никак не могла сползти с лица, все опускала мягкую, бескостную лапу вниз, во что-то кипящее, и, ожегшись, отдергивала лапу.
— Это он убил! — послышался возглас Петьки Мусикова. (Яшкин вздрогнул, приходя в себя.) — Он! Он, подлюка! — Петька Мусиков тыкал пальцем в тяжело дышащего, растрепанного командира роты Пшенного.
Молчаливая, не всегда покорная, но все же управляемая рота обступила ротного, смыкаясь вокруг, и совсем не так, как ее учили-наставляли, вскинула винтовки, деревянные макеты с заостренными концами, в полной тишине начала сдвигаться. Раз и навсегда усвоивший, что он, командир, начальник, может повелевать людьми, но им повелевать никто не смеет, кроме старшего по званию, если нападать, то он вправе нападать, на него же нельзя, — Пшенный не осознавал надвигающейся беды, пытался что-то сказать, скомандовать, губы его шевелились резиново, смятенно выбрасывая; «Шо? Шо?» — лицо сделалось серым и без свалившейся шапки казалось еще крупнее.
— Ребята! Ребятушки! — оказавшись в кругу, хватался за стволы винтовок, за обломки макетов Яшкин, загораживая своей тщедушной фигурой неповоротливое тело ротного. — Нельзя, братцы! Погубите! Себя погубите!
Яшкин осознавал: пробудившиеся в этих людях сила и неистовство, о которых никто, даже сами они не подозревали, уже неподвластны никому, эта сила волокла помкомвзвода на винтовках, сваливала на грузную тушу командира роты. Быть бы им обоим поднятыми на штыки, но кто-то выкинул руку, невероятно длинную, схватил Яшкина за ворот, бросил в сторону.
— Прр-ровались!
— С-споди Сусе! С-споди Сусе! Спаси и помилуй… — крестился Коля Рындин. — Ребятушки… Братики!.. Смертоубийство… Смерто… — И пытался собою задержать товарищей. Но они обтекали его, сталкивали, роняли. — Товарищ младший… Лексей Донатович! — заблажил на весь лес Коля Рындин.
Щусь терпеть не мог, тем более смотреть, как истязает ротный подчиненных, орет на них, будто на безрогое стадо, он ушел от греха подальше на плац, толкался меж куривших командиров, поджидая свой первый взвод. Но что-то его обеспокоило, и он еще до вопля Коли Рындина почуял неладное, помчался к сгрудившейся роте, крича издали:
— Отставить! Кому сказал — стой! — Ворвавшись в круг, схватился за штыки, повис на винтовках, крича в затверделые, безумные лица бойцов: — Сто-ой! Сто-ой!.. Ребята, вы что?! — И вдруг рванул шинель на груди, обнажил красный орден: — Колите! Коли-ите, вашу мать!.. Н-ну-у!
Крик младшего лейтенанта достиг людей, достал, пронзил их слух. Один по одному бойцы замедлили, затормозили тупое движение на цель, роняли винтовки, макеты. Обхватив лицо руками так, что обнажились красные запястья, зашелся в рыданиях Коля Рындин:
— С-споди, Мать Пресвятая Богородица! Милосердная…
Пшенный все глядел набыченно на остывающую, в себя приходящую толпу подчиненных, было видно, намеревался что-то предпринять поперечное, противоборствующее. Надо было сбивать напряжение.
Щусь деловито, почти спокойно скомандовал:
— Мусиков, Рындин, Васконян — ко мне! — И когда бойцы подошли, сказал: — Отнесите своего товарища в санчасть. Вам, — вперился он в Пшенного, застегивая шинель пляшущими пальцами, — вам… — Нужна была разрядка, нужно было произвести какое-то наказующее злодея действие, и, превышая власть, заместитель командира роты непреклонным тоном приказал ротному: — Вам — отправляться в штаб полка и честно, честно — повторил Щусь, — дос-ко-наль-но, — со значением добавил он, — доложить командиру полка о случившемся.
Пшенному подали шапку, он ее нахлобучил, подтянул пояс, по всему виделось, не хотел просто так отступать, но весь вид помощника молил его, подталкивал: да уходи ты, уходи, ради Бога…
Рука у Щуся, поцарапанная штыком финской винтовки — штык у нее пилой, — кровоточила. Он достал обвязанный шелком батистовый платок, зажал его в горсти, затягивая зубами концы платочка на запястье, не замечая больше Пшенного, кивнул Яшкину:
— Веди роту в расположение.
Сам свернул в лес и напрямую по снежному целику побрел к своей землянке, в отдалении уже обернулся: разбито, разбродно брело войско первой роты в военный городок, почти все парни утираются рукавицами, кто и жесткими рукавами шинелей. Отпустило. «Пусть лучше здесь умоются слезами с горя, чем в штрафной роте кровью».
Крепкий телом и нервами Щусь не страдал бессонницей, но в эту ночь не мог уснуть почти до рассвета.
Навалилось! Больше всего он не любил копаться в чужих жизнях, в своей и подавно — она хоть и коротка еще, но уже перенасыщена. Но это у Алексея Донатовича Щуся — просто гражданина, просто человека, у командира же Советской Армии жизнь, как ей и положено, пряма, проста, без зизгагов, как он любил шутить, понятная, небесполезная, как он уверял себя, принимая ее на каждый день и час такой, какова она есть, тащил без особой натуги свой воз по земле, не заглядывая за тын, из-за которого тянул шею, выглядывал лупоглазый белобрысый парнишка, молча взывая не забывать его. Парнишку того звали не Алексеем, а Платоном, и не Донатовичем, а Сергеевичем, и фамилия у него была Платонов. Не эта нынешняя фамилия, похожая на удар хлыста или порыв ветра, поднявшего ворох остекленелого от мороза северного снега. Фамилию эту никто не передавал ему по наследству, по родственной линии. Она образовалась от фамилии Щусев, вписал ее в военные списки писарь Забайкальского военного округа из хохлов-переселенцев, пропускавших по холодному, ветром продутому сараю парней, записанных в курсантскую роту. Плохо ли писарь слышал, курсант ли будущий околел до того, что губы одеревенели и все звуки произносились со стылым свистом. Раза три повторял он: «Щусев, Щусев, Щусев». Писарь клонил к нему голову, раздраженно переспрашивал: «Як? Як?» — и вписал как слышал: Щусь. Коротко и ясно. В жизни русского народа, давно сбитого с кругу и хода, произошла еще одна ошибочка, да и не ошибочка, всего лишь опечаточка. Эка невидаль! Кругом такое творилось, что и вовсе могли из всяких списков вычеркнуть человека, не заметив того.
Но еще раньше, когда он был не Щусевым и не Щусем, а просто Платошкой Платоновым, понимал он так, что жизнь — это беспрерывное движение, все ехали, все шли куда-то люди, кони, коровы, всякий мелкий скот, в память вонзилось и застряло Семиречье, казаки. Затем голая степь. Юрты, палатки, шалаши, кони, снова скот, много скота и неуклюжие животные с горбами под названием верблюды. После — глухая, черная, жутко гудящая тайга. Нет уже коней, скота нет, одни собаки воют по ночам. Люди черные, молчаливые, живущие по-звериному — в земляных норах, называемых землянками. Запах кедрового леса, масленая сладь ореха, горечь черемши, кислятина ягод, колючая, из овса слепленная лепешка, от нее горит во рту, першит, засаживает горло.