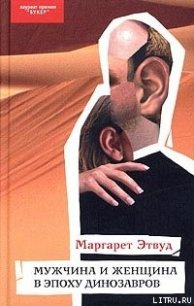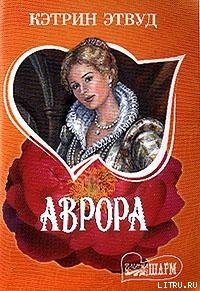Рассказ Служанки - Этвуд Маргарет (читать книги полностью без сокращений бесплатно txt) 📗
Глава семнадцатая
Вот что я делаю, вернувшись в свою комнату:
Раздеваюсь и натягиваю ночнушку.
Нащупываю в носке правой туфли плюху масла, которую спрятала после ужина. В шкафу слишком тепло, масло полужидкое. В основном впиталось в салфетку, которой я его обернула. Теперь у меня в туфле масло. Не впервые, потому что всякий раз, когда дают масло или маргарин, я его припрятываю таким вот образом. Большую часть я сотру с подкладки мочалкой или туалетной бумагой из ванной — завтра.
Я натираю маслом лицо, втираю в руки. Крема для рук или для лица больше не бывает — по крайней мере, для нас. Кремы объявлены тщетой. Мы — контейнеры, важны только наши внутренности. Наружность может задубеть и сморщиться, как ореховая скорлупка, — им наплевать. Это указ Жен — отсутствие крема для рук. Они не хотят, чтобы мы были привлекательны. Им и без того тяжко.
Масло — трюк, которому я научилась в Центре Рахили и Лии. Красный Центр, называли его мы, потому что красного там было полно. Моя предшественница в этой комнате, моя подруга с веснушками и веселым хохотком, наверное, тоже так делала, умасливалась. Мы все так делаем.
Пока мы так делаем, пока масло смягчает нашу кожу, мы в состоянии верить, что однажды выйдем на волю, что нас вновь коснутся в любви или желании. У нас будут свои церемонии, личные.
Масло жирное, оно протухнет, я буду вонять засохшим сыром, но это хотя бы, как выражались прежде, органика.
Вот до каких ухищрений мы докатились.
Намаслившись, я ложусь на кровать, плоская, точно гренок. Спать не могу. В полутьме гляжу в слепое штукатурное око посреди потолка, и оно смотрит на меня, хоть и не видит. Ни ветерка, белые занавески безвольно обвисли, точно марлевые бинты, они тускло сияют в нимбе прожектора, что освещает этот дом в ночи, — или снаружи луна?
Я откидываю простыню, осторожно встаю на бесшумные босые ноги, в ночнушке подхожу к окну, точно ребенок, — хочу посмотреть. И жалась луна к груди первого снега [45]. Небо чисто, но из-за прожекторов не разглядишь; и все-таки да, в смутном небе плывет луна, новорожденный месяц для желаний, осколок древней скалы, богиня, смешок. Луна — камень, и небеса полны смертельных железяк, но, Господи, как все же красиво.
Я так хочу, чтобы здесь был Люк. Я хочу, чтоб меня обняли и назвали по имени. Я хочу, чтоб меня ценили, как не ценят; я хочу быть не просто ценной. Я повторяю мое прошлое имя, напоминаю себе о том, что когда-то умела, о том, что во мне видели остальные.
Я хочу что-нибудь украсть.
В коридоре горят ночники, длинная пустота светится нежно-розовым; я иду, сначала одну ногу осторожно вперед, затем другую, ни единого скрипа, по ковровой дорожке, я крадусь по ночному дому, точно по лесу, колотится сердце. Я не на месте. Это решительно противозаконно.
Вниз мимо рыбьего глаза на стене — я вижу белый силуэт, тело как палатка, волосы по спине гривой, глаза блестят. Мне нравится. Я что-то делаю сама по себе. Активный — это спряжение? Напряжение. Я бы хотела украсть нож из кухни, но пока не готова.
Вот и покои, дверь приоткрыта, я проскальзываю внутрь, не закрываю дверь до конца. Деревянный скрип, но кто здесь расслышит? Стою, жду, когда зрачки расширятся, словно у кошки или совы. Старые духи, тряпочная пыль наполняет ноздри. В комнате легкая дымка света — из щелей вокруг задернутых портьер, от прожектора снаружи, где, несомненно, патрулем ходят двое, я видела их сверху из-за моих занавесок, темные формы, силуэты. Теперь я вижу наброски, проблески: зеркало, основания ламп, вазы, облаком в сумерках маячит диван.
Что мне взять? То, чего никто не хватится. В лесной чаще, в ночи, волшебный цветок. Увядший нарцисс, не из сухой икебаны. Нарциссы скоро выбросят, они уже пахнут. Вместе с Яснорадиными застоявшимися духами, вонью ее вязания.
Я нашариваю тумбочку, щупаю. Звяк — наверное, я что-то уронила. Нахожу нарциссы, хрусткие по краям, где высохли, обмякшие ближе к стеблю, отщипываю пальцами. Где-нибудь засушу. Под матрасом. Оставлю там следующей женщине, той, что придет за мной, она его найдет.
Но в комнате кто-то есть, у меня за спиной.
Шаг, тихий, как и мой, скрип той же половицы. Дверь закрывается с тишайшим щелчком, отрезает свет. Я застываю: белое — это ошибка. Я — снег в лунном свете, даже во тьме.
Затем шепот:
— Не кричи. Все в порядке.
Можно подумать, я закричу, можно подумать, все в порядке. Я поворачиваюсь: только очертания, тусклый обесцвеченный промельк скулы.
Он шагает ко мне. Ник.
— Ты что тут делаешь?
Я не отвечаю. Он тоже нарушает закон, вместе со мной, он меня не выдаст. И я его тоже; на мгновение мы — отраженье друг друга. Он сжимает мой локоть, притягивает меня к себе, его рот накрывает мои губы, а что еще родится из такой нужды? Без единого слова. Нас обоих трясет; как бы я хотела. В гостиной Яснорады среди сушеных цветов на китайском ковре его худое тело. Совершенный незнакомец. Это будет как закричать, это будет как застрелить кого-нибудь. Моя рука ползет вниз, а что на это скажешь, я могла бы расстегнуть, и тогда. Но слишком опасно, он это знает, мы отталкиваем друг друга, несильно. Чересчур доверия, чересчур риска, уже чересчур.
— Я тебя искал, — говорит он, выдыхает почти мне в ухо. Я хочу встать на цыпочки, лизнуть его кожу, он будит во мне голод. Его пальцы движутся, нащупывают плечо под рукавом ночнушки, будто не слушают голоса разума. Так хорошо, когда тебя кто-то касается, когда трогает жадно, когда трогает жадность. Люк, ты увидишь, ты поймешь. Это ты, в ином теле. Херня.
— Зачем? — спрашиваю я. Неужто ему так тяжело, что он рискнул прийти ко мне в комнату среди ночи? Я думаю о повешенных на крюках, на Стене. Я еле держусь на ногах. Надо уходить, назад, к лестнице, пока я совсем не исчезла. Его рука у меня на плече, крепко держит, тяжелая, давит теплым свинцом. И за это я умру? Я трусиха, я не переношу мысли о боли.
— Он велел, — отвечает Ник. — Он хочет тебя видеть. У себя в кабинете.
— О чем ты? — спрашиваю я. Очевидно, о Командоре. Видеть меня? Что значит — видеть? Ему что — мало?
— Завтра, — говорит он еле слышно. В темной гостиной мы отодвигаемся друг от друга, медленно, будто сцеплены силой, течением, разорваны столь же сильными руками.
Я нахожу дверь, поворачиваю ручку — пальцы на прохладном фаянсе, — открываю. Вот и все, что я могу.
VII
Ночь
Глава восемнадцатая
Я лежу в постели, еще дрожу. Можно смочить ободок бокала, провести по нему пальцем, и бокал издаст звук. Вот так я себя и чувствую: звуком стекла. Словом дребезг. Я хочу быть с кем-нибудь.
Лежу в постели с Люком, его рука на моем округлившемся животе. Мы втроем в постели, она брыкается, ворочается внутри меня. За окном гроза, потому она и проснулась, они слышат, они спят, они пугаются даже там, где уютный плеск сердца — точно пульс волн на берегу вокруг. Вспышка молнии, довольно близко, Люковы глаза на долю секунды белеют.
Я не боюсь. Сна ни в одном глазу, зарядил дождь, мы будем неторопливы и осторожны.
Если б я думала, что это никогда не повторится, я бы умерла.
Но это чушь, от недостатка секса никто не умирает. Умирают от недостатка любви. Мне здесь некого любить; все, кого я могла любить, умерли или ушли. Кто знает, где они сейчас или как их теперь зовут? Они вполне могут быть нигде, как и я для них. Я тоже без вести пропавшая.
Временами я вижу их лица во мраке, они мерцают, точно лики святых в древнем иностранном соборе, в огоньках сквозистых свечей; свечей, которые зажигаешь, чтобы помолиться на коленях, лбом на деревянном парапете, в надежде на ответ. Я могу вызвать их, но они лишь мираж, они ненадолго. Виновна ли я, что хочу реальное тело, хочу кого-то обнять? Без этого я тоже бестелесна. Можно слушать, как сердце стучит о пружины кровати, можно гладить себя под сухими белыми простынями в темноте, но я сама слишком суха, и бела, и жестка, зерниста; все равно что вести пальцами по тарелке высушенного риса; по снегу. В этом нечто от смерти, нечто от пустыни. Я — словно комната, где прежде что-то случалось, а теперь не случается ничего, лишь пыльца сорняков, что растут за окном, носится по полу, будто пыль.
45
Цитата из стихотворения Клемента Кларка Мура «Ночь перед РожДеством, или Визит св. Николаса» (1823).