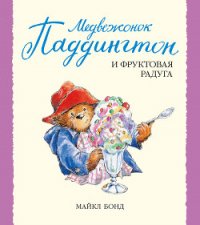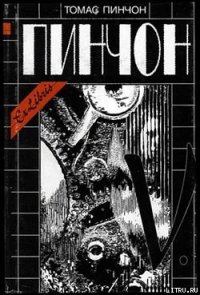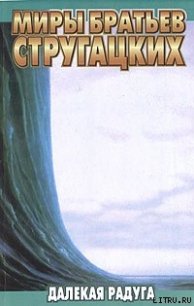Радуга тяготения - Пинчон Томас Рагглз (читаемые книги читать txt) 📗
Следом? У своего пыльного кожаного сиденья ждет Рыжий — негр-чистильщик. По всему разоренному Роксбери негры ждут. Следом? С танцпола внизу воет «Чероки», поверх хай-хэта, контрабаса — тысячи пар ног, где шальные розовые огни предполагают не бледнолицых гарвардских мальчиков с подружками, а толпу разодетых краснокожих. Та песня, что нынче играет, — очередная ложь о преступлениях белых. Однако под «Чероки» в канале потопло больше музыкантов, чем проплыло с одного конца до другого. Все эти долгие, долгие ноты… к чему они, что делать столько времени у них внутри? сговор индейских духов? А в Нью-Йорке — гони, может, успеешь к последнему отделению: на 7-й авеню между 139-й и 140-й сегодня «Птаха» Паркер откроет, как использовать ноты на верхних охвостьях этих самых аккордов, чтобы разломать мелодию на помилосердуйтеда что это такое блядь просто пулемет какой-то чувак да он спятил32-е тридцатьвторыеноты — произнеси очень (тридцатьвтораянота) быстро голосом жевуна если врубаешься, чтонесется из «Дома Чили Дэна Уолла» и вдоль по улице — блин, да по всяким улицам (к 39-му его странствие началось уже изрядно: вдоль по нутру самых утвердительных соло гудков — уже ленивое распотешенное дум-ды-дум самого старика Мистера блядь Смерть) по радиоволнам, на светские вечеринки, иногда аж и до того, что сочится из динамиков, запрятанных в городские лифты и все рынки, поет его птаха, противореча колыбельным Чувака, подрывая хмельной прилив бесконечно, бесхребетно переналоженных струнных… Стало быть, пророчество даже тут, на дождливой Массачусетс-авеню нынче уже осуществляется в «Чероки», саксофоны внизу пускаются в какую-то ох в натуре жуть…
Если за гармоникой следом в унитаз, придется Ленитропу головой вперед, а это не есть хорошо, птушто жопа тогда беззащитно вознесется в воздух, а коли вокруг негритосы, нам такого не надо: сам мордой в зловонную неведомую тьму, а бурые пальчики, крепкие и уверенные, тут же примутся расстегивать на нем ремень, разлатывать ширинку, сильные руки разведут ноги — и он уже чует на бедрах холодное лизольное дуновение, ибо длинные трусы тоже сползают вместе со своими разноцветными приманками на окуня и наживками на форель. Он старается поглубже залезть в очко унитаза, а тем временем сквозь вонючую воду смутно доносится гомон целой смуглой банды кошмарных негров, что, довольно голося, заваливают в уборную для белых, смыкаются над бедным ерзающим Ленитропом, корячатся джайвом, как это у них обычно, распевая: «Дай-ка тальку ты мне, Малькольм!» И голос, что им отвечает, — чей, как не этого Рыжего, мальчишки-чистильщика, который раз десять драил черные лакированные Ленитропа, опустившись на колени и пошчелкивая шчеткой в такт… а Рыжий — это сильно долговязый, костлявый рыжий парнишка, негр-чистильщик с причудливо выпрямленными волосьями, который для всех гарвардцев всегда был просто «Рыжим»: «Слышь, Рыжий, „Шейхов“ не завалялось?» — «А еще посговорчивей телефончика не найдется, Рыжий?» — этот негритос, чье настоящее имя наконец посреди унитаза достигает слуха Ленитропа — а толстый палец с плюхой очень склизкого желе или крема уже подползает по расщелине к его дыре, сплетая по пути волоски ломаной саржей, как изогипсы на топографической карте речной долины, — настоящее имя Малькольм,и все черные хуи знают его, этого Малькольма, всю дорогу знали — Рыжий Малькольм, Немыслимый Нигилист, грит: «Батюшки-светы да он весьсплошная жопа, а?» Черти червивые, Ленитроп, ну тебя и загнули раком! Хоть ему и удалось так забуриться, что одни ноги торчат, а ягодицы вздымаются и перекатываются под самой водой, словно мертвенно-бледные купола льда. Вода плещет, холодная, как дождь снаружи, по стенкам белого унитаза. «Хватай, покуда не сбежал!» — «А то!» Далекие руки цапают его за икры и лодыжки, щелкают его подтяжками и дергают за носки в ромбик, что мамуля связала ему специально для Гарварда, но изоляция так хороша либо он так глубоко продвинулся в унитаз, что рук почти что и не чувствует…
И тут он их стряхнул, касанье последнего негра осталось где-то наверху, а он свободен, скользок, как рыба, и девственная жопа его нетронута. Тут кое-кто сказал бы уф-ф, ну славабогу, а кто-то немного бы покряхтел, эх бля, но Ленитроп не говорит почти ничего, ибо почти ничего не чувствует.Вдоба-авок — по-прежнемуни следа его потерявшейся гармоники. Свет тут внизу темно-сер и довольно тускл. Уже некоторое время он замечает говно, причудливо облепившее стенки этого керамического (или к сему моменту — железного) тоннеля, в коем он сейчас: говно, что ничем не смыть, смешанное с минералами жесткой воды в предумышленные наросты на его пути, в узоры схем, тяжкие от смысла, как знаки «Бирма-Брижки» туалетного мира, вонючие и липучие, критические и глиптические, формы эти проступают и плавно минуют, а он продолжает спуск по долгому мутному урезу отходов, «Чероки» по-прежнему очень смутно пульсирует сверху, аккомпанируя ему до самого моря. Он сознает, что способен различить некие следы говна по явной принадлежности тому или иному знакомому гарвардцу. Что-то здесь, конечно, наверняка негритянское, но это последнее все на вид одинаково. Эй, вон то — «Индюк» Биддл, должно быть, в тот вечер, когда мы все ели чоп-суи в «Грешке Фу» в Кембридже, потому что где-то тут ростки фасоли и даже намек на соус из дикой сливы… надо же, некоторые чувства и впрямьобостряются… ух ты… «Грешок Фу», блин, это ж сколько месяцев назад. Вдоба-авок Свалка Виллард, в тот вечер у него был запор, нет? — черная срань, тугая, как смола, которая день придет — и навеки осветлится до темного янтаря. В ее тупых неохотных касаньях вдоль стенки (кои гласят о реверсе ее собственного сцепленья) он, сверхъестественно говнообостренный, способен различить древние муки в бедняге Свалке, который в прошлом семестре пытался покончить с собой: дифференциальные уравнения не желали для него сплетаться никаким элегантным узором, мать в надвинутой на глаза шляпке и коленями в шелке подавалась над столиком Ленитропа в «Большом Желтом Гриле Сидни», чтобы допить за него бутылку канадского эля, рэдклиффские девчонки его избегали, черные профи, с которыми его сводил Малькольм, впаривали ему эротические жестокости по доллару, сколько он мог вытерпеть. Или — если мамин чек запаздывал — сколько мог себе позволить. Смывшись вверх по течению, барельефный Свалка теряется в сером свете — нынче Ленитроп проплывает мимо знаков Уилла Каментуппа, Дж. Питера Питта, Джека Кеннеди — посольского сынка: слышь, где же Джек,блядский хек, а? Если бы кто и спас гармонику, то один только Джек. Ленитроп восхищается им издали — Джек атлет, добрый, в классе Ленитропа его все любят. На истории, конечно, чутка сбрендил. Джек… может, сумел бы не дать ей упасть, как-то завалил бы тяготение?
Здесь, на переходе в Атлантику, ароматы соли, водорослей, тленья слабо прибивает к нему, как шум волноломов, — да, похоже, Джек бы мог. Ради еще не сыгранных мелодий, миллионов возможных блюзовых строк, нот, гнутых на официальных частотах, подтяжек, на которые Ленитропу вообще-то не хватит дыхалки… пока не хватит, но настанет день… ну, по крайней мере, если (когда…) он найдет инструмент, тот хорошенько промокнет, гораздо легче играть. В унитазе такая мысль обнадеживает.
И вот именно тут накатывает этот кошмарнейший всплеск от уреза, грохот нарастает приливной волной, упакованный по самое не хочу волновой фронт говна, блевотины, туалетной бумаги и волосни в умопомрачительной мозаике налетает на перепуганного Ленитропа, как поезд бостонской подземки на свою бессчастную жертву. Некуда бежать. Парализованный, он оглядывается через плечо. Стена высится и волочет за собой длинные щупальца говнобумаги, удар по нему — ГААXXХ! он пробует по-лягушачьи лягнуться в последний миг, но его уже смел цилиндр отходов, темный, словно говяжий студень, по хребту его между лопатками, бумага рвется, облепляет губы, ноздри, все пропало и воняет говном, а он вынужден отмахиваться ресницами от налипающих на них микрокакашек, это хуже торпедной атаки япошек! бурая жижа несется дальше, влача его, беспомощного, за собой… похоже, он бултыхается вверх тормашками — хоть в этом сумрачном говношторме толком и не скажешь, никаких визуальных реперов… время от времени его трет о кустарник, а может, о перистые деревца. Ему приходит в голову, что давненько он уже не касался твердой стенки — с тех пор как начал кувыркаться, если он и впрямь кувыркается.