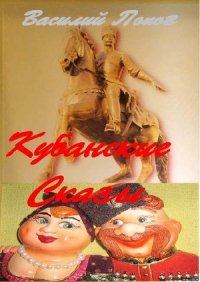Буколические сказы - Гергенрёдер Игорь (читать книги полные txt) 📗
Вот она повернётся со смешочком, он легонько брызнет из ушата, а она:
«Балабончики как лица, в ключевой они водице!»
«Ха-ха-ха!» — подружки смехом-то и зальются.
А парень усадит её на плечи голые, мытые — и ну катать! Рубашка на ней пузырится беленька, балабоны ядрёны — елдыр-елдыр на крепких плечах.
Катает её по всей опушке, да с припевкой: «Мои плечи гладки, закинь на них пятки!» Она: «Хи-хи-хи! Для этакой потачки встань-ка на карачки!» А подружки: «Обязательно! Завлекательно!»
Парень: «Ой, упаду, миленька, — ежевика оплела всё кругом!» Она ручки ему в волосы запустила, держится: «Ой, боюсь — не урони... подопри меня колышком до самого донышка!» — «Обязательно! Завлекательно!»
Он расстегнёт штаны — колышек ослобонить — и вроде как запутался ногами в ежевике. Эдак деликатно уронит девицу через голову вперёд, в маки-жасмин. На четвереньках красивая, смоляные брови: вроде растеряна бычка — не поймёт насчёт толчка. Рубашечка задралась до плечиков беленька, кругляши сдобятся-дышат, ляжки потираются — в межеулок зовут. А парень всей мыслью занят, как из ежевики ноги повытаскать, да не удержался недотёпа и навались на пригожую: обжал ляжками калачики, худым пузом на поясницу ей лёг. Ишь, лежит некулёма.
Девушка: «Ах, запутала рученьки ежевика, стреножила! как судьба моя горька — не уйти от седока!» А парень: «И я запутан. Не свернуть тебя на спинку под колышек-сиротинку!» А подружки: «Ты и так спроворь тычок, сиротинка-старичок...» Девушка с парнем: «Обязательно! Завлекательно!» И спроворят.
Давеча она сдобные подкидывала — теперь худеньки подкидываются над её кругляшами. Жилисты и худы, только нету в том беды. Вся сласть в корешке. Сиротинка — но и ему счастье: не запутался в ежевике-то. Набаивает навздрючь-копытце в полную меру.
Какая-нибудь девушка как крикнет:
«А другие старички не готовы ль на тычки?»
И пошло катанье! Борьба с ежевикой лукавой: у кого — обритенько, у кого — курчаво. И как у девиц лакомки сирописты, так и щеглы в лесочке преголосисты! Сочувствуют и птица, и зверинка девичьему счастью.
Кто уже понабаился вдоволь, в обнимочку сидят, пьют ключевую водицу из одного туеска. Ягоду едят сочную, давят друг у дружки на губах. А у остальных так набаиванье и идёт: у кого пузо на балабоны, у кого живот на живот.
Старики квасу напились, отдохнули после трудного сравненья — в ладошки хлопают: чисто дети! И до чего им отрадно на сердце от любезности: что молодёжь старичками прозывает мужскую примету, девичью досаду...
Но и на стариков бывало нареканье. Особливо от молодых казачек станицы Сыртовской. Были средь них огненно-рыженьки, кудреваты; глаза кошачьи — зелёное пламя. Уж как они уверены, рыжие, что их балабончики круглее всех! Ваше старьё, дескать, подсуживает. «Ах вы нахалки! — наши-то им. — И не конфузно вам перед их детскими глазами порочить честность? В беленьки рубашечки обрядились, балабоны умыли настоем цветка цикория, а у самих совести нет!»
Казачки: «Ладно, набаились мы у вас задушевно, а всё одно — ваше старьё куплено!» — «Да чем их купишь? Они, бедненьки, до того честны — сколь ни щупают, а ни у одного не набрякнет. Чай, сами-то видите...» А рыжи-кудреваты: «Ха-ха, не купишь?! Они концами бородёнок промеж балабончиков щекочут! Мы не выносим, а ваши-то терпят. Тем и покупают». Споры, перебранки, а как кончить дело без возражений — не знали.
Так докатилось до Москвы, до Питера. Когда после царя Керенский получал власть, в числе другого присягал: не петь, мол, про кудри рыжие, зелёные глаза. По всему, дескать, видать — у поиковских чернобровых зады круглее!.. А как большевики его убрали, все наши сравненья были взяты под пересмотр. На то, мол, и необходима народу советская-то власть!
Прислали к нам Куприяныча — с портфелем декретов, а не хренов подогретых. Лишь прибыл речистый — тут же решимость казать. Я, говорит, доведу вас до дела! Черняв-худенёк, бородёнка клинцом, глядит удальцом, на глазах — стёклышки-пенсне. В самые жары ходит в чёрном пиджаке суконном, пуговицы белого железа. Тело-то не потеет, а только руки. Девушки перед ним в сарафанчиках лёгких — верть-верть балабончиками: ну, приложит он ладонь? А Куприяныч им только руки пожимает: «Да, товарищ, вот-вот начнём. По порядку!»
Девушки: «Фу! И что это оно такое?..» А и началось. Накинул первый налог — не стало у нас самаркандских покрывал малиновых. Накинул второй — нету и рубашечек беленьких, голубых кружевцов. А там и перстеньки, и козловые башмачки фиглярные — тю-тю... Но Куприяныч всё накидывает и накидывает; рыщет по деревне: и когда-де они перестанут рассольник с гусиными шейками есть?
А наши всё исхитряются — едят. Старый мужик Фалалей к Куприянычу пришёл: «Ты, Митрий, на вкусном и сладком нас не укоротишь!» — «Да ну?» — «Мы, помимо тебя, найдём обчий язык с коммунизмом». — «Ты куда это заводишь, гражданин?» — и как заблистали-то стёклышки-пенсне! А у Фалалея глаза под бровями-космами глубоконько сидят, волоса-бородища не стрижены сроду; крепок телом — чугун. Одни портки холщовы на нём, спереди и сзади — прорехи.
«Ты скажи, Митрий, коммунизм — он без всякого такого?» — «Без чего?» — «Ну, тебе, чай, лучше знать. Иль, может, скажешь — со всяким он, с таким-разэтаким...» — «Цыц, гражданин, ты что? Коммунизм — он без всякого!»
Фалалей исподлобья глядит, эдака косматая башка. «Стало быть, коммунизм — голый». — «Чего?» А Фалалей: «Иль скажешь, к нему подмешано чего — к примеру, от хлыстов?»
Куприяныч как заорёт. Фалалей: «Ну-ну, голый он, голый — успокойся. И мы как станем голые, так и найдём с ним обчий язык, и он своих сирот не покинет. Голое-то всегда пару ищет». А в прореху портков этака сиротинка видна — тесто ею катать.
Ну, Куприяныч набавляет налог, а в окошко заглянет — наши, на-кось, блины со сметаной едят, к рассольнику-то. Что ты будешь делать? Сексотов завёл, премии сулит: не выходят ли, мол, из положения тихомолком, по ночам? Сексоты: так и есть! И шепчут про Фалалея.
Стемнело — Куприяныч по деревне летит. Бородка клином вперёд, ненависть наружу прёт. Эдак кругов пять рысканул вокруг Фалалеевой избы. Петляет, караулит. Ворвался. А Фалалей сидит посередь избы, на полу некрашеном — гол как сокол. Сиротинка колом-рычагом вторчь, а рядом-то — суслик. Подпрыгивает выше оголовка, суслик-то.
Куприяныч: «Хе-хе, гражданин, взяли мы вас на деле!.. — ладошки потирает. — Делайте признание». И на суслика сапогами топ-топ. А Фалалей: «Вы на него не топайте, не нарушайте связи с коммунизмом». Куприяныч так и сел на корточки. Глядит на Фалалееву маковку-сиротку — и задышал тяжело: аж слюна выступила на губах.
Фалалей говорит: «То-то и есть! Уж как я, сирота голый, коммунизма хочу, а мой часовой ещё сиротливей: вишь, стоит-ждёт. Головёнка тверда как камушек — до чего преданна! Дави-крути, а от своего не откажется. И коммунизм из своей будущей дали видит это. Как осиротели-оголились ради него — суслик от голодухи с поля в избу прибежал и ещё боле часового ждёт коммунизма: прыгает выше головки. Потому, Митрий, коммунизм и подаёт нам, сиротам, вкусного да сладкого от своей будущей сытости, и ты на этом наших сиротинок не укоротишь!»
А сиротинка-то длинна-высоконька, не увалиста — крутобоконька.
Куприяныч: «Что за разговоры? Да я по всей строгости покажу тебе...» Фалалей встал: «Вот она вся наша обчая строгость. Показываю!» И ведро с водой на часового повесил. Пусть, мол, глядит любая проверка — я могу очень строго доказать нужное насчёт того-сего... Только чтоб в проверяющих были опытные коммунистки!
Глядит Куприяныч, как часовой держит полнёхонько ведро: а коли, мол, в самом деле докажет? Какие ещё попадутся проверяющие коммунистки... Боялся он проверок.
Ушёл — и опять накидывает налог. В окошки заглядывает: а наши едят себе и едят. Ох, едят! Голые, а отрыжка слышна, а ложки-то стучат. Ну, как их словить на чём? Стал под окном слушать. Баба говорит: «Поели, а теперь давай, муженёк, сладкого...» А мужик: «Не-е! так будем спать. Не то коммунизм подумает: своё, мол, сладкое у них хорошо и не подаст нам».