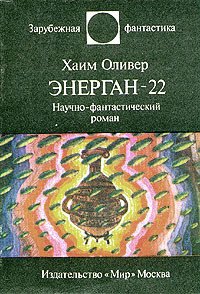Пляска Чингиз-Хаима - Ромен Гари (книги онлайн бесплатно без регистрации полностью .TXT) 📗
Итак, Шатцхен безудержно веселится. Обе избранные натуры взирают на него с огорчением и растерянностью, какую способны понять лишь те, кто с младых ногтей, с времен первой своей няньки, воспитывались в поклонении Джоконде. Сейчас они уже не сомневаются: Лили попала в лапы плебея, и весьма, весьма возможно, что полиция находится с ним в сговоре. Полиция ведь всегда набирается из нижних слоев общества. И речь идет о компрометации чрезвычайно знатной дамы. Эта вульгарная демократия жаждет вывалять в грязи ту, чей род многие столетия был окружен всеобщим почитанием и любовью. Все идет к тому, чтобы покончить с Духом.
Барон до такой степени возмущен, что даже обретает некоторое достоинство.
— Господин комиссар, ваше поведение безобразно. Я рассказываю вам о своей жене, которой грозит смертельная опасность, а вы начинаете хохотать. Предупреждаю вас, что я обращусь с жалобой к вашему начальству, но пока требую немедленной помощи.
Шатц приходит в себя. В чем, собственно, дело? Ах да, серия убийств в лесу Гайст. И он как раз вел допрос свидетелей. Где же они, эти свидетели? Ах, вот они. Все тут. Шиллер, Гейне, Спино… Нет, нет, не эти, другие. Эти скорее обвиняемые. Забавно, миллионы этих свидетелей присутствуют здесь только потому, что их тут больше нет. Чем дальше, тем непонятней. Комиссар Шатц в очередной раз осознал, что случаются временами такие провалы, когда он не вполне владеет собственными мыслями. Виной тому переутомление, а также эта проклятая… оккупация. Впрочем, на секунду я отстранился, он меня отстранил, прошу прощения, позвольте, Хаим, это я здесь… да нет, Шатцхен, нет, говорю вам… Хаим, хозяин здесь я… ладно, ладно, Шатцхен… Черта вам… Он стучит, точно глухой, кулаком по столу, но стол — государственная собственность, так что, сами понимаете, мне на это с прибором… И вот мы оба молчим, в тесноте, да не в обиде, как говорят русские… Ну разумеется, я говорю по-русски, а как же иначе. Вы не читали Шолом-Алейхема, Исаака Бабеля? В них мои истоки. Теперь главное продолжить расследование и не дать сбить меня с толку. На карту поставлена моя карьера… Ладно, ладно. Я пожимаю плечами. На карту поставлена его карьера. Это серьезное дело, и если удастся довести его до успешного конца, то всем, кто шушукается за его спиной, что, мол, комиссар первого класса Шатц уже некоторое время ведет себя весьма странно, он докажет, что способен прекрасно контролировать некоторые психические нарушения, обостренные давней, подхваченной во время войны инфекцией, и его не собьешь.
18. Требуется провиденциальная личность
Впрочем, у Шатца только что появилась идея. И как же это он раньше не додумался? Ну, поглядим, поглядим. Он расплывается в улыбке, а я страшно доволен, что он принял мою подсказку. Он не боится советоваться со мной, евреи — народ хитрый, опытный, и на этот раз я постараюсь следовать их советам. Вот только я не намерен влезать в это дело, я подсказал, а дальше пусть сами разбираются. Что меня больше всего бесит в Хаиме, так это то, как он ловко смывается и делает вид, будто он ни при чем, его нет, а это я, Шатц, сам до всего додумался, хотя я прекрасно знаю… Тут уже пошла такая свара, мне это все обрыдло, я решил отвалить, пройтись по лесу Гайст, чтобы набраться вдохновения, но в этот миг в кабинет врывается капрал Хенке, тот самый, что каждое утро в десять часов приносит нам чашку чая, и вид у него, прямо скажем, катастрофический.
— Господин комиссар…
— Что такое? Их арестовали?
— Сержант Клепке… вахмистр Бзик… Вы послали их патрулировать лес…
— Ну и что?
— Только что обнаружены их тела! Это ужасно… Вот такие вот улыбки…
Хенке изображает «вот такую вот улыбку». Весьма впечатляюще. Писарь, уже прочно сидевший на стуле, начинает подниматься, ну прямо тебе как тесто на дрожжах.
— К их рожам это очень идет, — бурчит Шатц. Недовольства в нем не ощущается.
— Они решили, что справятся. Ничтожества… Тут требуется провиденциальная личность, человек, способный обуздать ее, завалить, взять дело в свои руки и сделать ее счастливой. Она ничего не имеет против грубости, ей нравится, когда мужчина — это мужчина. Ей уже осточертели сопляки, молокососы, недоделки… Она уже наелась этих слабаков-демократов, чей хребет при первом порыве ветра сгибается, как тростник…
Он встает. Я отхожу чуть подальше и не без интереса наблюдаю за ним со стороны. Он топает ногой, на лоб ему спадает прядь, точь-в-точь такая же, заметьте, я вовсе не желаю этого Германии, но все-таки очень бы хотелось, чтобы вы ответили мне на один вопрос: не испытываете ли вы, когда читаете в газетах, какой процент голосов был отдан на выборах за неонацистов, крохотного удовлетворения? Признайтесь, вам начинает надоедать, что у вас появляется привычка думать о Германии иначе. Что, не так? Ведь правда же, куда приятней иметь возможность поместить Германию в графу «неисправимая, неизменно остающаяся самой собой», куда вы ее определили раз и навсегда, точно так же, как вы предпочитаете, чтобы евреи соответствовали образу, какой вы им создали за несколько столетий, а Израиль или демократическая Германия, разрушая ваши сложившиеся привычки и взгляды, немножечко вас смущают?
Вот почему я ловлю себя на том, что вопреки своей воле нашептываю Шатцу советы быть осмотрительней. Теперь я его не подталкиваю, совсем наоборот, я его удерживаю. Пусть за ней гоняются другие. Германия уже сделала для нее все, что могла. Но она не утолилась, ей хочется больше, еще больше. И я шепчу ему, что немцами она уже сыта по горло, ничего это не дало, она оставалась холодна, как мрамор. Я удерживаю его, я против, я убеждаю, доказываю. Чего хотят немцы? Две тысячи лет ненависти и плевков в спину? Стать новыми евреями, занять наше место, да? Одним словом, я уговариваю Шатца не лезть в лес Гайст и не ввязываться в это. И вовсе не из симпатии, как вы понимаете. Но если немцы опять попробуют удовлетворить ее, от Джоконды не останется ничего. Даже улыбки, плавающей в пустоте, как после Чеширского кота. Ничегошеньки. Ведь она же превратилась в чудовищно неудовлетворенную, чудовищно мечтательную и чудовищно требовательную принцессу. Чтобы воспарить от наслаждения, ей теперь потребуется не меньше пятисот мегатонн. На меньшее она не согласится: она начинает осознавать себя.
Он колеблется. Однако известно, что он немец, это видно невооруженным глазом, весь мир смотрит па него. И как поступить, когда взоры всего мира устремлены к твоей необузданной мужественности? Тут задумаешься. Я вовсю убеждаю его. Твержу ему, что она нимфоманка, что никому еще не удалось удовлетворить ее.
С этим своим внутренним спором мы совсем забыли про капрала Хенке. А он все еще тут. Вытянулся по стойке «смирно».
— Шеф…
— Ну что?
Руки по швам. Ест взглядом начальство.
— Прошу разрешения отправиться патрулировать лес Гайст. — И капрал скромно опускает глаза: — Не хочу хвастаться, шеф, но я уверен, у меня получится. У меня есть все, что нужно даже для очень знатной дамы. Если желаете, могу привести кое-какие цифры. У меня замечательный характер, я сеял несчастье всюду, где проходил.
— Пятнадцать суток ареста! — взвыл Шатц. — Кругом!
— Gott in Himmel! — скулит барон. — Невозможно гнусней оскорбить все, что в человеке есть благородного…
— Крепитесь, друг мой, — уговаривает его крайне шокированный граф.
В дверь заглядывает инспектор Гут. Он смеется.
— Чему вы так радуетесь?
— Господин комиссар, пришла делегация бойскаутов. Хотят помочь вам. Молодые люди страшно возбуждены. Готовы добровольно отправиться прочесывать лес.
— Гоните их домой. Пусть устраиваются собственными силами.
— Хи-хи-хи!
— А что делать с журналистами?
Шатц задумывается. Пожалуй, это будет наилучший выход: пусть увидят его на посту, убедятся, что он умело и хладнокровно ведет расследование. Это положит конец гнусным слухам, которые распространяют его враги.
— Впустите их.
Сколько их! Они примчались со всех концов света, и особенно возбуждены английские специальные корреспонденты: сами понимаете, в головах у них одни только немецкие зверства. Никак не могут простить нам бомбардировки Лондона. Спустя двадцать лет «Санди Тайме» хватило хуцпе выпустить специальное иллюстрированное приложение, посвященное «антисемитизму в Германии». Какой антисемитизм? В Германии осталось всего-навсего каких-то тридцать тысяч евреев, и вы считаете, этого достаточно, чтобы воссоздать, возродить идеологию?