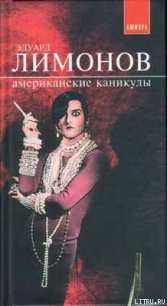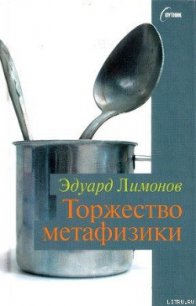Дневник неудачника, или Секретная тетрадь - Лимонов Эдуард Вениаминович (книги читать бесплатно без регистрации TXT) 📗
Счастье, мамочка, рвать в это время года на мелкие элегантные квадратики резкое любовное письмо и смотреть, как они уходят в воздух, и подрагивать в тонком ли плаще, в холодной ли коже.
Все умрем, да, и все совершается в миллиардный раз, как однако свежо и впервые заметить маленькое личико злой подружки-девочки, бывшей жены и подумать с ужасом: «любимая».
А у любимой узкие ноги, шальная и взбалмошная щелка под ивсенлорановской юбкой, шуба, подаренная очередным мужем за совершенно определенные заслуги…
Мамочка, в этой весне холода и металла есть необыкновенное волнение, словно вся культура — германские черные дубы и римские статуи окружили Эдьку Лимонова толпой…
Всегда какие-то дяди в секретных неизвестных кабинетах решали, ебаные, социальную судьбу мою. Потому я до сих пор неудачник, что не принимали эти тайные суки — решатели судьбы, мне неизвестные, меня в племя удачных. В России — одной стране света — так было, и в Америке — другой стране — так есть.
Сейчас в глубинах массивного издательства, многоэтажного, коричневого — «Макмиллан» — какие-то американские мужики и бабы решают судьбу моего романа «Это я — Эдичка». Они чешут лбы или смеются, надевают и снимают галстуки, чешут ноги или зад, поправляют очки, черкают карандашом в блокноте, курят и пьют кофе. Их тайное, неизвестное мне заседание чем закончится?
И что это их ебаное будущее решение имеет общего с моей действительной талантливостью и ценностью в мире? А одна баба, по имени Кати, среди них за меня, до самого последнего времени была за меня, как я слышал. Она хочет принять меня в племя удачных. Скушное, честно говоря, племя.
Только я жутко и клятвенно пообещал себе, если даже примут, навсегда остаться тайным неудачником, втайне соблюдать наши обычаи и обряды, разделять наши восторги и страхи.
Крепкое, тяжелое оружие, сверкающее на кипящем солнце. Верю, что будет читать меня молоденький лейтенант перед атакой, на ветреном весеннем холме, а внизу — город, который предстоит взять. И замрет молоденький лейтенант над моей книгой в ужасе и восхищении от самого себя, читая о том, как ходил Эдичка неузнанный по Нью-Йорку, улыбался и хмурился, как завидовал богачам, скромно стоял в сторонке, сцепив зубы и обхватив в кармане рукоять ножа… Как плакал, придя в отель, плакал от одиночества и энергии — все прочтет мой молоденький лейтенант. И поймет, что было, было общее во мне и моей кепочке с перистым шлемом молодого македонского царя Александра, с сияющим утром, когда рыжий маленький Цезарь обозревал речку Рубикон, а Че Гевара, поправив берет, спускался с гор в западню в долине Боливии. Было общее, если даже я сдохну в дерьме и неизвестности маленьким писателем двадцатого века, бесславно застреленным или сбитым автомобилем. И когда придет восхитительное время атаки, верю, заорет лейтенант, раздирая юношеский рот, натягивая свежевыбритые щеки — «За Эдичку, суки!» — нажимая спусковой крючок автомата. На горной улочке старого города, отбивая встречную атаку контрреволюционных войск.
Тыква. Овощ. Эх, какая желтая. Ох, какая большая, в точечках. Или мандарин (танжерин) чем плох — гладкий, маленький и пахнет прекрасно. Особенно когда снимаешь кожуру, деревенеть и в волокна переходить начинающую изнутри. Я люблю создания природы, и вот вчера у меня была женщина, имеющая огромные груди и маленькие красные соски. Женщина — мексиканка. Много в ней и индейской, ацтекской, очевидно, крови. Я женщину ласкал, а она восхищалась моими руками, и в п. только пальцем и позволила проникнуть, так что о п. я много не знаю, как она у мексиканской женщины.
Впрочем, я не обиделся — это была наша первая встреча — успею узнать.
Еще ее особенность — очень узкие ногти, ноготки скорее, особенно на мизинцах, что при ее росте (она выше меня на два инча), груди и широченных бедрах — странно, согласитесь. И странно похожий на ноготки был у нее узкий ацтекский нос. Так я развлекаюсь с природой, а то жить одиноко и неуспешно.
Когда совсем нет денег и голодный — злоба на мир больше, когда чуть деньги есть — злоба меньше. От гордости и упрямства (не хотелось просить миллионерову экономку о деньгах или еде) я неделю питался то отвратительным куриным бульоном, то луковицей да картошкой. Я много спал эту неделю, выходя гулять, очень замерзал в мартовском воздухе, хотя и глотал перед выходом джин из припрятанной на черный день бутыли.
В таком состоянии вечерние горящие огни и молодые рабы-самцы, растрачивающие свои туго заработанные доллары на молодых рабынь-самок за стеклами маленьких ресторанчиков на Первой и Второй авеню, куда я выходил гулять (бесплатно, слава богу), — вызывали во мне острую зависть.
Как-то, повстречав визгливо высыпавшую из ресторана компанию, я, зверски скособочив и напрягши черты лица, пошел прямо на них, на их лучшую девушку и насильственно разрезал их своим кожаным пальто, сжимая в кармане нож и готовый к кровавой драке, если усатые запротестуют. Ничего не случилось, хотя они и ругали меня вслед.
В один из таких вечеров — в субботний, когда было уже достаточно тепло, я неосознанно придумал себе новую муку — нашел у ресторана «Мартель» два чистых, но старых кресла и решил принести их домой. Для меня, вскормленного водянистым бульоном, который я все время разбавлял, кресла оказались дико тяжелы. Перетащить каждое из них на мою Первую авеню был адов труд — это я понял, когда понес первое. Подвыпившие парочки и компании, вываливающиеся из ресторанов и дискотек, мешали мне идти — я выглядел нелепо, таща эти рваные кресла, разряженные в субботу девки смеялись, из кресел обильно сыпалась на меня желтая труха, все, кто попадался на дороге, были выше меня ростом, пот лил с меня — так, наверное, чувствовал себя в Риме маленький черноглазый раб-иудей, таща за сумасшедшим хозяином тяжелую кладь в какой-нибудь праздник сатурналий, но я сцепил зубы и донес кресло, с облегчением скрывшись в своем подъезде. Втащить его на пятый этаж уже не составляло труда — никто ведь не видел. Упрямый, я подверг себя экзекуции и во второй раз. Выжил.
По истечении недели я сдался и взял у миллионеровой экономки денег — купил кусок мяса и еще другой еды и, поев, сразу стал добрее.
Ходишь, ходишь из угла в угол — работы уже два месяца нет, ходишь, то в окно посмотришь, то спать приляжешь на полчаса-час, то сигарету закуришь, то чаю похлебаешь, то бульону дешевого, то в книжку заглянешь — а книжка пошлая, глупая, отбросишь с гримасой, то в другую книжку, то вниз в подъезд спустишься — в почтовый ящик глянешь — писем нет, на телефон с надеждой взглянешь — молчит, в ванную комнату пойдешь, в зеркало там воткнешься, рожу погладишь, волосы поправишь, где они торчат, либо завиваются, отольешь в туалет, то вдруг воды в ванну нальешь — в ванну залезешь — сидишь в теплой воде, выйдешь, вытрешься — опять к окну потянет.
В окне март сырой, влажность и хмурость, и старуха в окне дома напротив из-за растений как всегда выглядывает, любопытствует, как и я, об жизни, изменений хочет. На старуху посмотришь и опять из угла в угол заходишь, а то на кресла новообретенные, с улицы подобранные, цветными тряпками прикрытые, присядешь — там сидишь. Так часы за часами — время уходит зря. Потрогаешь себя — а не больно, что часы уходят? Нет, не больно, да и все равно не изменить этого. Глупость жизнь, глупость.
А ведь столько энергии внутри, так развернуться бы мог. Хуй ты в этом обществе развернешься, такие баррикады за века на пути личности воздвигли — что общество мне прямой и главный враг. А пойди против — и автомат достать нелегко. Ну и ходишь опять, ходишь из угла в угол. Дни за днями. Что делать — работы нет. На улице же еще грязно и холодно.