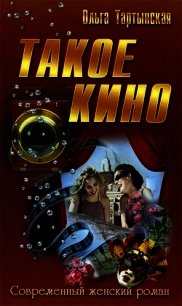Путь Людей Книги - Токарчук Ольга (лучшие книги читать онлайн бесплатно без регистрации TXT) 📗
— Никогда.
— Тогда послушай. В молодости, пребывая в неволе у арабов, он служил у какого-то арабского адепта алхимии. Ему удалось выкрасть коробочку с красным порошком и убежать. Добравшись до Лондона, он занялся изготовлением золота. И жил шикарно и беззаботно, пока не был убит людьми, охотившимися за его тайной. Кем — до сих пор неизвестно.
— Немного смахивает на фантастические истории, рассказываемые у камелька, — не сдавался Берлинг.
— Каждый из нас волен оставаться при своем мнении. Но если для тебя что-то значат авторитеты, есть о чем задуматься: ведь алхимиками были многие великие люди. Платон утверждал, что человек — отражение всей вселенной. Человеческой жизнью управляют те же самые силы, что приводят в движение планеты. Познавая себя, познаешь внешний мир. И наоборот. Алхимию можно считать способом познавания процессов, происходящих одновременно внутри и снаружи. Получив философский камень, человек стал бы обладателем полного знания о себе и мире. Если посмотреть с этой стороны, исчезнет противоречие между алхимическим, тайным знанием и знанием естественным. Заметь: те, кто многое внес в науку, обычно были также великими адептами. Гермес Трисмегист, Остан, Птолемей Александрийский — выдающийся ученый, астролог. Ты, наверное, слышал о философе Демокрите из Абдер, который умел расплавлять камни и превращать их в изумруды. Или о Марии Еврейке, одной из многих занимавшихся тайной наукой женщин. Это она изобрела аппарат для возгонки, заложив тем самым основы алхимической практики. Но самый великий алхимик был родом из арабских стран — это Джабир, мудрец, автор труда «Ое оссиИа рЬПозорЫа», до сих пор, спустя десять веков, пользующегося огромной популярностью. А Авиценна, врач и философ, или Зосима Гностик, которого не любит Церковь? А Альберт Великий, доминиканец, католический святой, приверженец Аристотеля?.. Алхимией занимался Роджер Бэкон и даже Фома Аквинский, который, однако, честно предупреждал, что наука эта может вводить в искус нравственно нестойких людей, подогревая их тщеславие и жажду богатства. В наши дни величайшим алхимиком был бы, несомненно, Арнольд де Вилланова. Его обвинили в сговоре с дьяволом…
— А не уклоняешься ли ты с помощью этой лекции от прямого ответа на вопрос о Шевийоне, сударь? — перебил его Берлинг.
Маркиз посмотрел на него внимательно.
— Нет, он не хочет производить золото, и эликсир молодости ему не нужен. Шевийон не из тех, что мечтают о бессмертии в этом мире. Ты удовлетворен?
Берлинг молчал, пораженный проницательностью Маркиза. Похоже было, он вот-вот произнесет что-то очень важное. Однако, ничего не сказав, выпустил из легких воздух, будто сдаваясь.
— Я, правда, испытываю какое-то странное чувство, — проговорил он. — Раздвоенность, что ли. И не потому, что ты меня в чем-то убедил. Одна моя половина жаждет поверить всему, что я от тебя услыхал, а вторая подымает ее на смех.
Маркиз выбросил в окошко виноградную кисть, на которой не осталось ягод.
— Меньше всего мне бы хотелось стать причиной смятения в твоем уме.
Берлинг махнул рукой и обратился к Веронике:
— Не будем его слушать, сударыня, не то этот чародей украдет у нас души.
11
Маркиз был не только весьма искусен в каретных спорах, но и столь же ловко организовывал ночлеги и добывал провиант, чем и занимался последующие несколько дней, в течение которых экипаж медленно, но неуклонно продвигался на юг. Однако ему было как-то не по себе. Возможно, его огорчало, что Берлинг вскоре распрощается с ними и отправится в свою Тулузу. Возможно, он опасался близящейся осенней непогоды. Или, наконец, своего растущего интереса к Веронике, против воли привлекавшего к ней взор, внимание и мысли. Он еще не знал, что влюблен, ибо не хотел разбираться в своих чувствах. Но все сильнее испытывал потребность в одиночестве и — как это ни парадоксально — желание отгородиться от той, к которой его неумолимо влекло.
Берлинг заметил, что Маркиз часто погружается в задумчивость и словно бы вообще отсутствует, и старался быть предельно деликатным. Ни о чем его не расспрашивал, не вызывал на откровенность. Будучи человеком вежливым и хорошо воспитанным, он не считал себя вправе во что-либо вмешиваться. Однако ему было жаль Маркиза, и — быть может, поэтому — он заводил интеллектуальные разговоры на нейтральные темы, стараясь отвлечь друга от гнетущих мыслей. Толчком к беседе обычно служило то, чему они случайно становились свидетелями: промелькнувшая за окном кареты длинная вереница гугенотов, ожесточенный или исполненный тревоги спор за соседним столиком в придорожном трактире; иногда это бывал очередной рассказ о Книге.
А Маркизу становилось все хуже. И не только на душе. Его темные выразительные глаза отказывали ему в повиновении. Появилась резь, краснота, в сумерках глаза слезились. Каждый вечер Вероника делала ему компрессы из целебных трав: ромашки, ноготков, подорожника. Маркиз отдавался ее приносящим облегчение рукам с наслаждением и благодарностью. Этих минут он начинал ждать уже с полудня.
— Откуда у вас в глазах столько воды, Маркиз? — спрашивала Вероника, готовя кусочки чистого полотна для компрессов.
— Наверно, лед во мне тает, — шутливо отвечал Маркиз и нежно целовал ее заботливую руку.
В один из октябрьских дней они остановились на большом постоялом дворе, единственном на весь городок, выросший у них на пути.
Трактир трещал по швам. Мест не было ни в комнатах наверху, ни в конюшне внизу. За столами сидели усталые люди в пропыленной одежде. Женщины укачивали младенцев, мужчины дремали, откинувшись на спинки деревянных лавок.
Берлинг узнал от толстой трактирщицы, что все эти путники — гугеноты из окрестностей Монтобана, направляющиеся в Голландию.
— На ночлег нечего и рассчитывать, сударь. Тут яблоку негде упасть. Попробуйте вместе с этими людьми пойти к пастору — может, пустит переночевать. Но перекусить у меня кое-что найдется.
В ожидании скромного ужина Маркиз разговорился с молодым мужчиной, который любезно освободил ему место за столом. От него Маркиз узнал, что несколько дней назад король официально отменил Нантский эдикт. С этого дня единственным легальным вероисповеданием во Французском королевстве становился католицизм. Иноверцам ничего не оставалось, кроме как сменить либо веру, либо отечество. Молодому человеку терять было особо нечего. Он был всего лишь подмастерьем кожевника, семьей обзавестись не успел. Многие из его близких, правда, решили остаться и только прикинуться обращенными — из-за какого-то подписанного королем документа веру не меняют. Молодой гугенот полагал, что в чужой стране не пропадет — он ведь был специалистом по выделке кож. Людям везде нужна хорошая кожа для башмаков, перчаток и сумок. Но его тревожила судьба оставляемых здесь родителей — униженных, одиноких, старых.
Маркизу вспомнилась мать. Бедная его мать со своей всегдашней беспомощностью и неумением разбираться в происходящем вокруг. Обманываемая и используемая мужем, держащаяся за свою веру, как слепец за трость. Посмеют ли причинить ей зло? Куда она пойдет, если ее пастор в один прекрасный день станет сапожником или убежит вслед за другими? Первой мыслью Маркиза было присоединиться к группе гугенотов и повернуть обратно. Забрать мать из холодного дома, где она заболела артритом, и увезти в Голландию, в эту землю обетованную. О жене и сыне он не думал. По ним он не скучал. И не считал, что чем-либо им обязан. Перед глазами у него стояла только старая женщина, кормящая рыжих кошек.
В ту ночь, проведенную в доме пастора, уныние и печаль обволокли его вязкой туманной пеленой. Ему было знакомо это чувство, и он не пытался ему противиться. Тем более что оно уже с некоторых пор назревало, сгущалось, как тяжелые грозовые тучи.
У Маркиза случались приступы меланхолии. Они ни от чего не зависели, не были ни на что ответом, являлись ниоткуда. Пользовались внешними обстоятельствами лишь как предлогом, чтобы внезапно захлестнуть его душу, нагрянув из темного потайного уголка. Начиналось все обычно с ощущения некой несовместимости с остальным миром. Маркизу тогда казалось, что его физическая оболочка — да, именно так: оболочка, а не он сам — неуместна в гармоничном, уравновешенном мире. Что из-за его присутствия нарушается идеальное равновесие. Он чувствовал себя прыщом на лице мира, раковой опухолью на его здоровой ткани. На свете оказывался один лишний. Из-за этого ощущения им овладевало бессилие. Не было такого места, где бы он мог спрятаться, где мог бы устроиться, никому не мешая. Ложась на кровать, он разрушал саму идею кровати, пытаясь ходить взад-вперед, нарушал покой окружающих его предметов, когда говорил, слова утрачивали глубину и смысл, называли то, что уже давно названо. Его голос резал слух. Он не мог укрыться от самого себя.