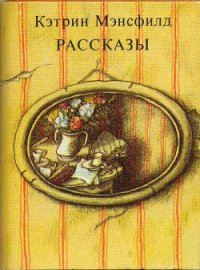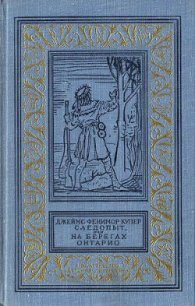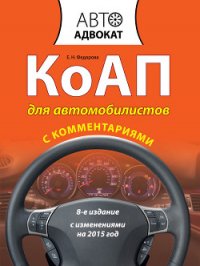Я исповедуюсь - Кабре Жауме (полные книги TXT) 📗
– Мы же решили, что ее не существует. Как ты это достал?
– Связи.
Когда я был маленьким, то часто вел себя так. Наверное, подражал отцу. Или, может быть, сеньору Беренгеру. В данном случае «связи» – это одно чрезвычайно удачное воскресное утро на блошином рынке Сан-Антони. Там можно найти что угодно, потерянное во времени. От концертных платьев Жозефины Бейкер до посвященного Жерони Занне сборника стихов Жузепа Марии Лопеса-Пико. И тройной вкладыш «феррари» тоже, которого, как говорили, не было ни у одного мальчика в Барселоне. Изредка отец брал меня с собой на рынок, старался меня чем-нибудь занять, а сам беседовал с загадочными людьми с вечной сигареткой в углу рта, руками в карманах и беспокойным взглядом. Он записывал что-то таинственное в тетрадку, которая потом исчезала в каком-нибудь секретном кармане.
Тяжело вздохнув, они захлопнули альбом. Они должны были терпеливо ждать, сидя в комнате, как в засаде. Нужно было о чем-нибудь говорить, чтобы не сидеть молча. Поэтому Бернат решил спросить о том, что давно не давало ему покоя, но о чем лучше было не спрашивать, потому что дома ему сказали: лучше не поднимай эту тему, Бернат. Но он решился спросить:
– Как это так, что ты не ходишь на мессу?
– У меня есть разрешение.
– От кого? От Бога?
– Нет, от падре Англады.
– Ни фига себе! А почему все-таки ты не ходишь на мессу?
– Я не христианин.
– Вот черт! – Растерянное молчание. – А разве можно не быть христианином?
– Наверное. Я же не христианин.
– Но что ты тогда? Буддист? Японец? Коммунист? А?
– Я ничто.
– Разве можно быть ничем?
Я никогда не знал ответа на этот вопрос, вставший передо мной в детстве и наводивший на меня тоску. Разве можно быть ничем? Я стану ничем. Стану подобным нолю, который не является ни натуральным числом, ни целым, ни рациональным, ни вещественным, ни комплексным? Подобным нейтральному элементу среди целых чисел? Я полагаю, что и того хуже: когда меня не станет, я перестану быть необходимым, если я вообще необходим.
– Хау! Я совсем запутался.
– Слушай, не усложняй!
– Нет, что до меня…
– Помолчи, Черный Орел!
– Я верю, что Великий Дух Маниту защищает всех: и бизонов от опасностей в прериях, и людей от дождя и снега, – и выводит на небо солнце, которое нас греет и уходит за горизонт, когда пора спать, и направляет дуновение ветра и течение рек, и нацеливает зрачок орла на его жертву, и побуждает воинственный дух героя умереть за свой народ.
– Эй, Адриа, где ты витаешь?
Адриа мигнул и ответил: да тут я, тут.
– Иногда ты ускользаешь куда-то.
– Я?
– Дома говорят, это потому, что ты – мудрец.
– Из меня мудрец, как из дерьма – пуля. Хотел бы я иметь…
– Вот только не начинай!
– Тебя дома любят.
– А тебя – нет?
– Нет. Меня просчитывают. Высчитывают коэффициент интеллекта и говорят: надо послать его в Швейцарию, в специальную школу, надо, чтобы он мог пройти три класса за год.
– Ого! Разве это не здорово? – Он подозрительно посмотрел на меня. – Нет?
– Нет. Они спорят на мой счет. Но не любят.
– Да ну… По мне, так все эти поцелуи…
Когда мама сказала Лоле Маленькой «сходи в лавку Розиты», я понял, что наш час пробил. Как два вора, как те, кто говорит в сердце своем: не скоро придет Господин мой, мы вошли туда, куда вход нам был воспрещен. В полной тишине мы проскользнули в кабинет отца, чутко прислушиваясь к звукам в глубине дома, где мама и сеньора Анжелета разбирали одежду. Пару минут мы привыкали к темноте и насыщенной атмосфере комнаты.
– Тут странно пахнет, – сказал Бернат.
– Ш-ш-ш! – прошептал я, немножко мелодраматично, чтобы произвести впечатление на Берната сейчас, когда мы только начали дружить. Я сказал ему, что это не просто запах – так пахнет сама история, которую составляют предметы из папиной коллекции. Я не очень понимал, что говорю, и, если честно, не совсем в это верил.
Когда глаза привыкли к темноте, первое, что увидел с удовольствием Адриа, – изумленное лицо Берната. Тот уже почувствовал не странный запах, но дух самой истории, который испускали предметы коллекции. Два стола, заваленные манускриптами, над ними странная лампа… Что это? А, лупа. Фу, вот черт… И гора старых книг. В глубине – шкафы, заполненные еще более древними книгами, слева – стена, увешанная небольшими картинами.
– Они ценные?
– Ух!
– Ух – что?
– Вот эта – кисти Вайреды [95], – гордо пояснил Адриа, показывая на набросок.
– А-а.
– Знаешь, кто такой Вайреда?
– Нет. Дорого стоит?
– Ужас сколько. А это – гравюра Рембрандта. Она не уникальна, но…
– А-а.
– Знаешь, кто такой Рембрандт?
– Не-а.
– А эта вот маленькая…
– Она очень красивая.
– Да. Эта самая ценная.
Бернат приблизился к бледно-желтым гардениям Абрахама Миньона [96], словно хотел ощутить их запах. Точнее, словно хотел унюхать запах денег.
– И сколько стоит?
– Тысячи песет.
– Ого! – Он словно погрузился в транс на какое-то время. – А сколько тысяч?
– Не знаю точно, но очень много.
Лучше оставить его в неопределенности. Это было хорошее начало, а теперь нужно нанести решающий удар. Поэтому я подвел его к стеклянной витрине. Он замер, а потом воскликнул: вот черт, что это?
– Кинжал кайкен, самурайский, – гордо ответил Адриа.
Бернат открыл дверцу витрины – я нервничал и посматривал на дверь кабинета, – взял кинжал (такой же самурайский кайкен, как и в нашем магазине), заинтригованный, подошел к окну, чтобы рассмотреть его получше, и вытащил из ножен.
– Осторожно! – сказал я таинственным голосом – мне показалось, что он недостаточно впечатлен.
– Что значит «самурайский кинжал кайкен»?
– Это кинжал, которым японские женщины-самураи совершали самоубийство. – И повторил, понизив голос: – Орудие самоубийства!
– А зачем они убивали себя? – без всякого удивления, без сочувствия, как-то тупо спросил Бернат.
– Ну… – Я напряг воображение. – Если дела складывались не очень хорошо, чтобы покончить со всем.
И добавил, чтобы подвести черту:
– Эпоха Эдо, шестнадцатый век.
– Ух ты!
Он внимательно рассматривал кинжал, наверное представляя самоубийство японских женщин-самураев. Адриа забрал у него кайкен, вернул в ножны и, стараясь не шуметь, положил обратно в витрину. Тихо закрыл дверцу. Теперь он понял, что должен все-таки сразить друга наповал. До этого момента мальчик колебался, но сейчас принял решение: нужно заставить Берната забыть о сдержанности, заставить того выпустить наружу настоящие эмоции. Адриа приложил палец к губам, призывая к абсолютной тишине, включил свет в углу и начал вращать ручку сейфа: шестерка единица пятерка четверка двойка восьмерка. Отец никогда не закрывал его ключом, только на кодовый замок. Итак, я открыл тайную комнату сокровищницы Тутанхамона. Несколько связок древних бумаг, две закрытые коробочки, куча папок с документами, три пачки ассигнаций в углу и на верхней полочке скрипичный футляр с размытым пятном на крышке. Я вынул его не дыша. Затем открыл футляр, и перед нами возникла сияющая Сториони. Сияющая ярче обычного. Я перенес ее ближе к свету и показал Бернату на прорезь эфы.
– Читай, что там написано! – скомандовал я.
– Laurentius Storioni Cremonensis me fecit. – Он поднял голову, зачарованный. – Что это значит?
– Прочти до конца, – проворчал я, еле сдерживаясь.
Бернат снова начал вглядываться в полумрак скрипичного нутра. Я повернул скрипку так, чтобы было легче увидеть цифры: один семь шесть четыре.
– Тысяча семьсот шестьдесят четвертый, – не выдержал Адриа.
– Вот это да! Дай сыграть на ней что-нибудь. Чтобы услышать, как она звучит.
– Ну да. И отец сошлет нас на галеры. Ты можешь только прикоснуться к ней.
95
Жуаким Вайреда (1843–1894) – один из наиболее известных каталонских художников-пейзажистов XIX в.
96
Абрахам Миньон (1640–1679) – голландский живописец, рисовавший в основном натюрморты, среди которых множество ваз с цветами на темном фоне.