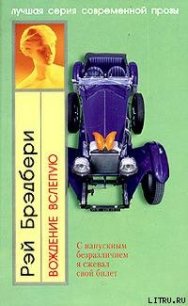Поезд прибывает по расписанию - Бёлль Генрих (читаем бесплатно книги полностью TXT) 📗
Она плакала до жути беззвучно. Андреас ветел и пошел к роялю, проходя мимо нее, он погладил ее по затылку. Она с изумлением поглядела ему вслед. Слезы у нее моментально высохли. Теперь она смотрела на него не отрываясь: он сидел на табуретке у рояля, вперив глаза в клавиши, боязливо расправляя пальцы, на лбу у него появилась глубокая поперечная морщина, страдальческая морщина.
Обо мне он забыл, думала Олина, забыл обо мне, самое обидное, что они о нас забывают, когда становятся самими собой. Обо мне он больше не думает, никогда больше не подумает. Завтра утром… в Стрые он умрет, даже не вспомнив обо мне.
А ведь он моя первая и единственная любовь. Первая. Теперь он совсем один, невыразимо печален и совсем один. Морщина рассекла его лоб на две части, лицо его побледнело, он развел пальцы, словно хочет дотронуться до какого-то опасного зверя… Ах, если бы он смог что-нибудь сыграть, хоть что-нибудь, тогда он снова был бы со мной. Первое же созвучие вернет его ко мне. Ведь он мой, мой, мой… Мы близнецы, я всего на три дня старше его. Если бы он только мог что-нибудь сыграть. Все его тело свела судорога, он так мучительно развел пальцы, побелел как смерть, он так безмерно несчастен. И в памяти у него не осталось ничего, что мне хотелось ему внушить, играя на рояле… а потом рассказывая о себе; ничего не осталось – все исчезло, кроме привычной боли.
Она оказалась права: когда внезапно с выражением злобы и отчаяния он ударил по клавишам, то сразу же поднял голову, самый первый его взгляд предназначался ей. А потом он улыбнулся. Никогда в жизни она не видела такого счастливого лица, как у него, у этого юноши у рояля, освещенного неярким, желтоватым светом лампы.
Боже, как я его люблю, думала она, он сейчас такой счастливый, и он мой, и мы будем с ним в этой комнате до утра.
Она думала, он сыграет что-нибудь шумное, бурное, что-нибудь искрящееся, блестящее – из Чайковского, Листа или Шопена, ведь он как безумный ударил по клавишам.
Но он играл сонатину Бетховена. Нежную, простую, очень коварную для исполнителя музыкальную пьесу, и на секунду она испугалась, что он ее «смажет». Но он играл очень хорошо, очень осторожно, пожалуй, даже слишком осторожно, как бы не доверяя своему умению. И очень любовно. Никогда в жизни она не видела такого счастливого лица, как лицо этого солдата, отражавшееся в зеркальной крышке рояля. Он исполнял сонатину немного неуверенно, но очень чисто, она никогда не слышала, чтобы ее играли так чисто и проникновенно, он играл очень четко и безупречно ясно.
Она надеялась, что он будет играть еще. На душе у нее стало легко: она лежала теперь на кушетке, где только что лежал он; в пепельнице дымилась сигарета, ей очень хотелось затянуться, но она не решалась взять сигарету – малейший шорох мог его спугнуть… Прекрасней всего было его лицо, очень счастливое лицо, отражавшееся в черной блестящей крышке рояля…
– Да нет, – сказал он, смеясь, и встал, – что ж играть? Какой смысл? Надо было учиться вовремя, а я так и остался дилетантом… – Он наклонился над ней и отер ей слезы: как хорошо, что она плакала. – Лежи, – сказал он вполголоса, – не надо вставать. Я ведь тоже хотел рассказать тебе многое.
– Да, – прошептала она, – рассказывай и налей мне вина.
Как я счастлив, думал он, подходя к шкафу, бесконечно счастлив, хоть и убедился, что музыканта из меня не вышло. Чудес не бывает. Я так и не стал пианистом. С этой мечтой давно пора распроститься, и все равно я счастлив.
Он заглянул в шкаф, а потом, повернув голову, спросил:
– Какое вино ты хочешь?
– Красное, – сказала она весело, – на этот раз красное.
Он вынул из шкафа пузатую бутылку, увидел лист бумаги и карандаш, поглядел в ее записи. Сверху было написано что-то по-польски, очевидно, «спички», потом по-немецки «мозель», а дальше шло польское слово, которое наверняка означало «бутылка». Какой у нее прелестный почерк, подумал он, красивый, тонкий почерк. Под словом «мозель» он нацарапал «бордо», а под словом «бутылка», написанным Олиной по-польски, поставил кавычки.
– Неужели ты и вправду записал? – смеясь, спросила она, когда он наливал вино.
– Конечно.
– Не можешь обмануть даже хозяйку публичного дома?
– Напрасно думаешь, – сказал он и вдруг вспомнил дрезденский вокзал: с мучительной ясностью ощутил на языке вкус этого дня, увидел перед собой краснощекого лейтенанта. – Напрасно думаешь, я обманул одного лейтенанта в Дрездене.
Он рассказал ей всю ту историю на вокзале. Она опять засмеялась.
– Какой уж тут обман!
– Самый настоящий, – возразил он, – я не должен был так поступать, мне надо было крикнуть ему вдогонку: «Я не глухой!» Но я молчал, потому что знал: скоро я умру, и потому что он так разорался. На душе было муторно. И меня сковала лень. Да, – продолжал он тихо, – на меня в самом деле напала страшная лень, мне было лень крикнуть ему; так приятно было ощущать во рту вкус жизни. Сперва я, конечно, хотел все разъяснить. Помню совершенно отчетливо ход своих мыслей: «Ты не вправе допускать, чтобы человек чувствовал себя по твоей милости униженным, даже если этот человек новоиспеченный лейтенант с новоиспеченным орденом на груди». Так нельзя, думал я… До сих пор он стоит у меня перед глазами; я вижу, как он смущенный, обескураженный, багрово-красный убирается восвояси, а за ним плетется толпа ухмыляющихся солдат – его подчиненных. Как сейчас вижу его толстые руки и жалкие плечи. Когда я вспоминаю его жалкие глупые плечи, то готов завыть. Мне было лень, просто лень открыть рот. Это был даже не страх, а самая обыкновенная лень. Как прекрасна жизнь, думал я, и эта снующая толпа. Один едет к жене, другой – к возлюбленной, а та женщина спешит к сыну. На дворе осень; как чудесно! А вот эта парочка, которая идет к выходу с перрона, будет сегодня весь вечер, всю ночь целоваться под развесистыми деревьями на берегу Эльбы. – Он вздохнул. – Я расскажу тебе про всех, кого я обманывал…
– Не надо, – сказала она, – рассказывай лучше что-нибудь веселое… И подольше, – она засмеялась. – Тоже еще обманщик!
– Я хочу рассказать всю правду. И когда я крал, и когда обманывал. – Он снова налил вино и чокнулся с ней. Они взглянули друг на друга, улыбнулись, и в эту секунду он вдруг по-новому увидел ее красивое лицо. Я должен удержать это лицо в памяти, думал он, удержать навсегда, ведь она принадлежит мне.
Я люблю его, думала она, люблю его…
– Мой отец, – начал он тихо, – мой отец умер от последствий тяжелого ранения, мучался целых три года после той войны. Когда он умер, мне был всего год. Мать ненамного пережила его. Никаких подробностей я не знаю. Все это мне рассказали в один прекрасный день, когда захотели объяснить, что та женщина, которую я считал матерью, вовсе мне не мать. Я вырос у тетки, сестры матери, которая вышла замуж за адвоката. Адвокат загребал кучу денег, но у нас с ней никогда не было ни гроша за душой. Он пил, И мне казалось вполне естественным, что по утрам за завтраком глава семьи с похмелья куролесит и злобствует; позже, правда, я познакомился с другими главами семей, отцами моих товарищей, но их я как-то не принимал всерьез. Мужчины, которые не напиваются каждый вечер, а по утрам, за кофе, не устраивают безобразных сцен, для меня просто-напросто не существовали. «Вещь, которой нет» – так, по-моему, говорили гуингнмы у Свифта. Я думал, все мы рождены для того, чтобы на нас орали. Женщины рождаются, чтобы их третировали, рождаются, чтобы всякими правдами и неправдами спасаться от судебных исполнителей, чтобы выносить оскорбительные попреки обманутых торговцев, чтобы выискивать все новые возможности брать в долг. Тетка моя была в этом смысле виртуозом. Она умудрялась всякий раз находить нового кредитора. Казалось, уже все потеряно, но тут она вдруг становилась тихой как мышь, принимала таблетку первитина и куда-то исчезала. Домой она никогда не возвращалась без денег. Я считал ее моей матерью, а этого жирного опухшего борова с красными лопнувшими жилками на щеках моим драгоценным родителем. Белки глаз у него были желтоватые, изо рта разило пивом, вонь от него шла, как от прокисших дрожжей. Я считал его моим отцом. Мы жили в просторном особняке, имели прислугу и тому подобное, но иногда у тетки не было ни пфеннига и она не могла сесть на трамвай, проехать несколько остановок. А мой дядя был знаменитым адвокатом… Тебе не скучно слушать? – вдруг прервал он себя и встал, чтобы еще раз наполнить рюмки.