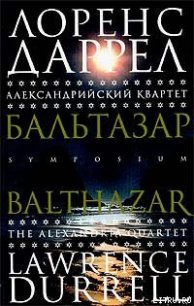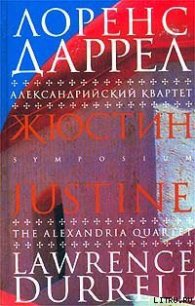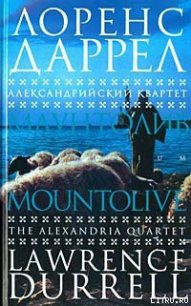Клеа - Даррелл Лоренс (читаем книги онлайн .txt) 📗
Ждать пришлось совсем недолго; не успели мы почувствовать даже и тени усталости от нетерпения, от предвосхищения праздника, как оркестр, который что-то играл под сурдинку, будучи ежесекундно, так сказать, на «товьсь», вдруг замолчал. В дальнем конце вестибюля показался Ансельм и взмахнул салфеткой. Они прибыли! Музыканты разом взяли долгое дрожащее арпеджио, в каком обычно растворяется под конец цыганская мелодия, и, едва лишь между пальм показалась стройная фигурка Семиры, уверенно и мягко перешли в ритм вальса. Семира мне как-то вдруг сразу понравилась: и то, как она запнулась на пороге переполненной бальной залы, и то, как, несмотря на великолепие платья и на ободряющие, ласковые взгляды, потерялась на минуту. Она застыла в полушаге, похожая на яхту, когда ослабнет фалинь и поставят кливер: долгий раздумчивый момент, пока она не повернется и не подставит ветру, с едва слышным вздохом, правую скулу. Но в эту самую минуту, минуту очаровательной, почти что детской нерешительности, за ее спиной появился Амариль и взял ее под руку. Он и сам был бледен и явно нервничал, хоть одет был с привычной щегольской небрежностью. Вот так, застигнутый врасплох, в минуту едва ли не паники, он выглядел абсурдно молодым. Затем он услышал музыку и стал шептать ей что-то на ухо дрожащими губами, ведя ее при этом решительно и твердо, может быть, немного тверже, чем следовало, между столиками к краю танцевальной площадки, где с медленного изысканного разворота они начали вальс. После первой же полной фигуры уверенность в себе вернулась к ним обоим – буквально воочию было видно, как это происходило, постепенно, с каждым па. Они успокоились, Семира закрыла глаза, у Амариля на губах заиграла привычная вальяжная улыбка. Волна аплодисментов всплеснула в бальной зале и разошлась по углам. Даже официанты были, по всей видимости, тронуты, а старина Золтан так и вовсе потянулся за платком – Амариля здесь любили все.
Похоже, Клеа тоже была взволнована до крайности. «Давай-ка выпьем, – сказала она, – и побыстрее, а то у меня в горле стоит здоровенный плотный ком, а если я разревусь, потечет тушь».
Беглая ружейная пальба шампанского со всех сторон, зал вмиг заполнился танцующими парами; замельтешил, меняясь, свет. И улыбка Клеа – то синяя, то красная, то зеленая – над бокалом шампанского, счастливая, немного насмешливая. «Ты не станешь возражать, если я сегодня выпью лишнего, в честь ее нового носа? Я думаю, мы можем пить за их счастливое будущее совершенно спокойно, потому что они не расстанутся теперь ни за что на свете; они пьяны вдрызг той самой галантной любовью, о которой читаешь в легендах артуровского цикла, – рыцарь и спасенная рыцарем дама. И очень скоро пойдут у них детишки, и у каждого будет славный маленький носик моего образца».
«Не уверен».
«Ну, мне хочется так думать».
«Пойдем потанцуем».
И мы нырнули в толчею перед оркестром, дав крови волю пульсировать музыке в такт, в такт всполохам света, мягкому ритму джаза и танцующим, что колыхались слитно, как разноцветные кущи под водой в какой-нибудь тропической лагуне; мы стали – одно целое друг с другом и со всеми прочими.
Мы не стали засиживаться в «Auberge» допоздна. За порогом, на свежем влажном ветерке, она передернулась дрожью и едва не упала, поймав меня за руку.
«Что с тобой?»
«Что-то вдруг голова закружилась. Уже прошло».
И обратно, в Город, по безветренной тихой набережной, сопровождаемые дроботом копыт о макадам, звяканьем сбруи, запахом соломы и замирающими звуками музыки, что текли из бальной залы и замирали меж звезд. Мы отпустили кеб у «Сесиль» и пошли в сторону ее дома по извилистой пустынной улице рука об руку, слушая, как гулко, парами, падают отраженные и усиленные тишиной шаги. В витрине книжной лавки были выставлены несколько новых романов, один – Персуордена. Мы остановились на минуту, поглядели сквозь стекло в сумеречные недра лавки и пошли не торопясь дальше. «Зайдешь на минутку?» – спросила она.
У ее квартирки вид тоже был праздничный – цветы, ведерко со льдом и в нем бутылка шампанского. «Я не была уверена, останемся ли мы в „Auberge“, и приготовила на всякий случай ужин здесь, – сказала Клеа и обмакнула пальцы в воду с кусочками льда; вздохнула облегченно. – Во всяком случае, сможем выпить по отходной».
Здесь, по крайней мере, памяти моей обмануться было нечем, ибо все осталось точно таким, как прежде; и я ступил в эту милую, знакомую до мельчайших деталей комнату – как будто в любимый, маслом писанный пейзаж. Все вещи на своих местах, переполненные книжные полки, массивный мольберт, маленькое дачное пианино, в углу рапиры и теннисная ракетка; на письменном столе посреди груды писем, рисунков, счетов – подсвечник, и она как раз собралась зажечь свечи. На полу стоят картины: я поглядел, подивился.
«Господи Боже мой! Да ты никак в абстракционисты подалась, Клеа?»
«Ага! Бальтазар их терпеть не может. Я думаю, это у меня просто заскок такой, на время, так что не спеши меня хоронить. Просто другой способ чувствовать цвет, саму краску. Тебе они тоже не нравятся?»
«Да нет, как раз наоборот, они сильней, чем те, прежние».
«Хм. Еще и свечи, понимаешь, слишком резкая светотень, ее там нет».
«Очень может быть».
«Иди сюда, сядь; я налила нам выпить».
Мы сели, словно по команде, на ковре, лицом друг к другу, скрестив ноги, «как армянские портные», – она так говорила когда-то. Горели алые свечи, ровно, бросая розоватый отсвет на чистые черты Клеа, на ее чуть тронутые улыбкой губы; мы подняли бокалы. И здесь же наконец, на обычном нашем месте, на вылинявшем от древности ковре, мы обнялись в – как бы это выразить? – в минутном всплеске улыбчивого какого-то покоя, словно чаша языка преклонилась сама собой и плеснула через край и поменяла вдруг слова на поцелуи, припечатывая каждым особенные смыслы молчания, оттачивая – в каждом – мысль особую и жест. Они были как мягкие облака, отдистиллированные разом из нашей новой, нежданной невинности, из явного до боли отсутствия страстей. Я как-то вдруг почувствовал, что опять иду назад по собственным следам (вспомнил давнюю, из прошлой жизни ночь, когда мы спали здесь вдвоем, без снов, обнявшись), к той самой двери, запертой на ключ, что не пустила меня к ней в тот раз. Назад, к той точке во времени, тому порогу, за которым жила бесплотная тень Клеа, улыбчивая и ни за что не в ответе, как цветок, – после долгих скитаний окольными тропами по засушливым степям моих дурацких бредней. Тогда я не знал, как подобрать к этой двери ключ. Теперь она вдруг стала отворяться сама собой, медленно, за дюймом дюйм. В то время как другая дверь, которая когда-то вела меня к Жюстин, захлопнулась, закрылась навсегда. Что там говорил Персуорден о «раздвижных панелях»? Но у него-то речь шла о книгах, не о душе человеческой. Она уже не лукавила и ни о чем не думала – она страдала, вся отдавшись неге муки, страдание заполнило до краев ее великолепные глаза, страдание было и в том уверенном, чуть замедленном жесте, которым она подтолкнула мои руки в глубь широких рукавов халата и отдалась их объятиям – плавный жест женщины, отдавшей тело бесценной – нежнее нежного – накидке. А как она взяла мою ладонь, положила себе на сердце и сказала: «Слышишь! Совсем остановилось!» И мы все медлили, все мешкали на грани, будто две застывшие фигуры на позабытой за давностию лет картине, и пробовали не торопясь на вкус редкую удачу счастья, выпадающего иногда на долю тех, кто готов насладиться друг другом без оглядки, без памяти, без продуманных заранее костюмов и поз – без всех и всяческих натужных ухищрений обычных человеческих Любовей; и вдруг темный воздух снаружи еще потемнел, набух злокачественной опухолью звука, который, словно доисторическая птица, заколотившая в неистовом испуге крыльями, заполнил собою комнату, всю, сразу: и свечи, и наши тела. Она вздрогнула, чуть только в первый раз взвыли сирены, но с места не двинулась; Город тут же зашевелился гигантской растревоженной муравьиной кучей. Улицы, только что безмолвные и темные, огласились слитным эхом шагов – люди шли к бомбоубежищу, шурша, как вихрь взметенных ветром сухих осенних листьев. Обрывки разговоров спросонок, крики, смех взлетели к окнам ее маленькой комнаты. Улица оказалась вдруг полна народу, будто пересохшее русло реки после первых весенних дождей.