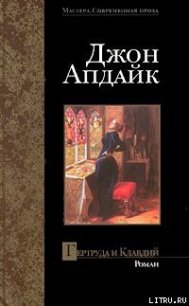Ферма - Апдайк Джон (читать книги полностью без сокращений txt) 📗
Я предложил почитать Ричарду вслух. Ему это явно показалось нелепым.
— Так гораздо же быстрей читать самому, глазами.
— Да, конечно. Я думал, тебе приятно будет. Наверно, я просто соскучился, оттого что мне некому читать вслух.
— Ладно. Можешь почитать мне. Хочешь, я спущусь вниз за книжкой про цветы?
— Боюсь, для чтения вслух она не очень подходит.
— Ну, возьмем сборник научной фантастики.
— Мама считает, что это вредно читать на ночь.
— У мамы все какие-то ненужные страхи.
— Знаешь что? Лучше я тебе что-нибудь расскажу.
— А ты умеешь?
— Раньше каждый вечер рассказывал. Но слушали меня, — я чуть было не сказал «мои дети», — маленькие дети, так что извини, если тебе покажется, что ты уже перерос такие рассказы.
— Ничего. Я люблю все детское.
Интересно, подумал я, знает ли он, что «все детское» — это из Библии. Его мать иногда употребляла глагол «знать» в устарелом, как мне казалось, библейском смысле. До девятнадцати лет я не знала мужчины. Конечно, Джой, женщина становится совсем другой, лучше, после того как она узнала мужчину. Меня смущало, что оба они такие нехристи, хоть и не отдают себе в этом отчета; я корил себя, что до сих пор не собрался выучить Ричарда молитве на сон грядущий, которой я когда-то учил своих детей. Я закрыл глаза, и, как одна звезда чувствует движение прочих в слепой бесконечности космоса, я почувствовал, что он сделал то же.
— Однажды лягушонок попал под дождь, — начал я. — Дождь, — я мысленно шарил вокруг себя в поисках образа, — дождь барабанил по его пупырчатой коже, как по крыше дома, и лягушонок радовался, что кожа у него непромокаемая.
— А промокаемой кожи не бывает.
Я открыл глаза, увидел, что его глаза широко раскрыты и смотрят на меня то ли чуть дерзко, то ли чуть боязливо (этот взгляд мне напомнил его отца), и усомнился: а закрывал ли он их в самом деле.
— Но он это особенно чувствовал, — сказал я. — Он ведь занимал в ней так мало места.
— То есть как это? Я не понимаю.
— В своем теле он был точно крошечный король в своем дворце. Отдаст приказ крепким лапкам — и, как из рогатки пущенный, перелетит с одного листа кувшинки на другой; отдаст приказ языку — и тот стрелой метнется в воздух и на лету поразит бедняжку муху. — «Бедняжка Джоан», вспомнилось мне слышанное не раз за последние два дня. — Лягушонку казалось, — продолжал я, — что рот у него большой, как подъемные ворота, а глаза торчали на лбу, как дозорные башни, и не раз до него доходили слухи о бесценном сокровище, что будто бы запрятано, как в подземелье, глубоко-глубоко в кишках, куда ему никогда еще не доводилось спускаться.
— В кишках! — засмеялся Ричард.
Внизу послышались голоса матери и Пегги. Слов было не разобрать. Я заторопился досказать свою сказку.
— Вот дождь наконец перестал, но деревья уже облетели, и все кругом побурело и высохло. Стало тут лягушонку скучно, и надумал он отправиться на поиски этого сокровища, про которое от кого-то слышал, хоть толком не помнил от кого. Спустился он по винтовой лестнице, которая вела из его головы вниз…
Ричард опять засмеялся. Может, нужно надеть ему металлическую скобку на передние зубы, чтобы они сдвинулись теснее, подумал я, но тут же решил, что Пегги уж, верно, советовалась на этот счет с зубным врачом.
— …съехал по трубе горла, пролез по перекладинам ребер, попал в мрачную сводчатую комнату, где гулко отдавался каждый его шаг…
— Похоже на доктора Зейса, — сказал Ричард.
— А я рассчитывал, что будет похоже на Данте. Ты слышал про Данте?
— Он кто — француз?
— Почти. Итак, лягушонок все спускался да спускался, из одного незнакомого помещения в другое; и чем ниже он спускался, тем меньше и меньше становился, и когда наконец он очутился там, где по его расчетам должно было находиться сокровище, — исчез совсем!
Видя, что я замолчал, Ричард еще шире раскрыл глаза; в резком свете стоявшей рядом лампы карие кольца радужных оболочек расслаивались, дробились на пятнышки, точки, радиально идущие волокнистые штрихи. Женские голоса снизу зазвучали громче; я напряженно вслушивался, не раздастся ли смех, но смеха не было слышно.
— Это уже конец? — спросил Ричард. — Он умер?
— С чего ты взял, что он умер? Просто он стал такой маленький, что сам себя не мог разглядеть. У него началась зимняя спячка.
— А-а, ну да, конечно. Ты же говорил, что деревья облетели.
— По-твоему, умереть — значит исчезнуть?
— Я не знаю.
— Правильно. Я тоже не знаю. Но так или иначе, прошло сколько-то времени, наступила весна, лягушонок пробудился, видит, кругом темно, и вот он пустился в обратный путь — вверх, вверх, вверх, пробежал все помещения, поднялся по винтовой лестнице, добежал до глаз, распахнул веки, выглянул — а небо-то голубое. Вот теперь конец.
— Распахнул веки — это ты хорошо придумал.
— Спасибо на добром слове. И что выслушал мою сказку, тоже спасибо.
— Ты мне когда-нибудь расскажешь еще?
— Вряд ли. Ты уже большой для сказок.
— А сколько теперь лет Чарли?
— Чарли?
— Твоему настоящему сыну.
— Ему семь. В октябре будет восемь.
— Не так мало. Я бы мог с ним играть.
— Ты думаешь? Ну что ж, надо будет это устроить. Он скоро вернется в Нью-Йорк.
— Да, я знаю.
Пегги ему сказала. Я угадывал Пегги за его вежливым интересом. Но в отличие от Пегги я еще не мог вообразить себе наших детей идиллически играющими вместе, как будто развод — это нечто вроде родства в третьем или четвертом колене.
— Теперь, может, сам почитаешь немножко? Какую тебе книжку принести, про цветы или научную фантастику?
— Да нет, на сегодня, пожалуй, хватит. Я лучше просто так полежу, послушаю, как дождь шумит. Прошлой ночью я слышал, как сова ухала.
— И я слышал. Давай я погашу лампу, но оставлю свет в ванной.
— Зачем, не надо. Я не боюсь темноты.
Я потянулся к выключателю лампы и, не прерывая движения, наклонился поцеловать Ричарда. У нас не было так заведено, но он ждал этого и с мальчишечьей резкостью повернул голову — в темноте мне не видно было, ко мне или от меня. Мои губы пришлись на складочку у самого краешка его рта.
— Спокойной ночи, лягушонок, — сказал я.
По мере того как я шел вниз, на свет, на крепнущий шум голосов, меня все сильней одолевал, обволакивал неуловимо знакомый сырой, влажный запах — казалось, вот-вот я узнаю в нем что-то забытое, но с детства дорогое, что долго дремало в камне, в дереве, в штукатурке, в воспоминаниях дома, а дождливый вечер нашел это там и разбудил. Но я ошибся: запах шел от непросохшего полотенца, брошенного на перила, и это был терпкий запах мокрых волос Пегги.
Моя мать и жена разговаривали; с половины девятого до десяти длился их разговор — то бурлил водоворотом внезапного спора, то, разом утихнув, спокойно тек дальше, стоило одной или другой выйти из комнаты за бокалом вина, или печеньем в вазочке, или стаканом разбавленного джина; то из длинных и душных туннелей настороженности выныривал на просторы мирных воспоминаний, а там вновь незаметно подбирался к опасной теснине; и хотя ради этого разговора мы, в сущности, и приехали, слушать его мне было нестерпимо трудно. Мать полулежала на диване, пестром от клочьев собачьей шерсти, а Пегги примостилась в вольтеровском, кресле, где когда-то с епископской важностью восседал мой дед. Я сидел между ними в крашеном садовом кресле и читал Вудхауза. Время от времени ко мне обращались, требуя, чтобы я что-то подтвердил или опроверг.
— Так это твое мнение, Джой, что я угнетала твоего отца? Ведь если не от тебя, то ей не от кого было услышать что-либо подобное.
— Джой, не ты ли сам мне говорил, что тебе до восемнадцати лет не позволяли встречаться с девушками?
— Джой, это правда, что Джоан тебе изменяла, или это, так сказать, уже задним числом выдумано?
— Скажи же, что я права, Джой! Если ты промолчишь сейчас, значит, ты мне лгал раньше.