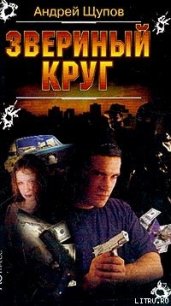Последний срок - Распутин Валентин Григорьевич (читать книги онлайн полностью TXT) 📗
– А им меня ждать и не надо, – по-особому, со смиренной решимостью сказала старуха и повернулась к Миронихе. Руками она держалась за край кровати, все еще боясь, что может упасть. – Я их задерживать не буду. Им тоже домой охота, я у их не одна. Я рази не понимаю? А я на Таньчору погляжу, как приедет Таньчора, и начну сподобляться. У меня смерть легкая будет, я чую. Попрощаюсь с ними, глаза сама закрою и помру. Подойдет к мине Варвара поглядеть, а из меня уж последний дух вылетел, я уж легкая. Она им скажет. Мне бы только Таньчору увидать. Где-то долго ее нету, не доспелось ли с ей чё. Говорели, вчерась – приедет, – нету. Вчерась говорели сёдни будет, – и тоже нету. Я себе на своей кровати места не нахожу, не знаю, чё и думать.
– Ты, старуня, зря не убивайся. Покамест время терпит, приедет твоя Таньчора. А чё зря убиваться. Тамака у ей, может, самолеты не летают. Теперича все на самолетах. У нас-то летают, я слышу, а у ей, где она живет, может, небо плохое, а то самолетов на ее не хватило. Это нам с тобой друг к дружке через дорогу перебежать, никого ждать не надо, а оттель, сама знаешь, дорога не ближняя.
– Им меня ждать не придется, – повторила старуха, качая головой. – Нет, нет, не придется. Мне боле уж нельзя задерживаться. Нехорошо. Я и так вдругорядь живу. Ребяты приехали, бог узнал и от чьей-то доли мне ишо маненько дал, чтоб я на их поглядела да от с тобой напоследок поговорела. Тепери назадь надо. Ишо как-нить день перемогу, и все, и надо снаряжаться. Пора. Пускай ребяты меня проводят, поплачут по матери, чтоб уж им не попусту приезжать. Какая-никакая, а мать – жалко. Я свою мамку, помню, хоронила, дак изревелась вся, а тоже уж не молоденькая была, в годах. А как иначе? Никто из нас не вековечный, все изживаются. А ты, Мирониха, уж так и быть, помоги им сподобить меня, помоги. Хошь ты и говоришь, что я вредительша, а какая я вредительша? Сроду ей не была.
– Тебе уж и сказать нельзя.
– Да говори, – потеплела старуха. – Мне не жалко. Ты думаешь, я осердилась, ли чё ли, на тебя? Мы с тобой не такое друг дружке говорели за свою жисть, и то ничё. Ишо не хватало, чтоб я на тебя, девка, сердилась. Чё бы я без тебя делала? Я ить тебя со вчерашнего дня жду. Ты завтра-то тоже приди к мине, посидим ишо. Кажись, и жили долго, а и то не все друг дружке сказали, не наговорелись. Мне и там без тебя будет тоскливо.
– Дак я, старуня, может, раньше твоего помру.
– Ишо не лучше! Ране она моего помрет. Ты бы хошь говорела да не заговаривалась. Ты рази не слыхала, чё я тебе только сичас обсказывала? Я ить не приставлялась, я тебе правду сказала. И ты меня не путай.
– Я тебя не путаю.
– Ну и сиди, не спорь со мной.
– Я, однако, вот чё, – Мирониха привстала и через старуху потянулась к окну. – Я, однако, сбегаю, досмотрю: может, она, страмина, пришла. Досмотрю и назадь прибегу, посидю ишо с тобой. А ты покамест одна побудь.
– Ну дак беги, когда надо, я тебя не держу. – Ты не думай, я быстро провернусь.
– Беги, девка, не оговаривайся.
Старуха опять осталась одна, и исподволь, из ничего на нее нашла неслышная и легкая печаль, от которой она всплакнула и сразу же, не теряя слез, утишилась, будто сотворила короткую очищающую молитву. На полу рядом со старухой играло солнце, она сдвинула на него свои ноги, и когда солнце, не боясь худобы, принялось гладить и пригревать косточки, ей стало совсем хорошо и снова захотелось заплакать, будто она начала с ног подтаивать и оседать. Она осмелилась и отцепила от кровати руки, сняв с них тяжесть и размышляя, что если она упадет, то упадет на солнце и пристанет к нему, а потом Мирониха придет и подберет ее. Но она не упала и сразу же забыла, что могла упасть, она смотрела через окно на улицу, где день, переламываясь, подступал к обеду и гнулось высокое отцветающее небо. Ее завораживало солнце, но не тот огненный шар, который сиял в небе, а то, что попадало от него на землю и согревало ее; вот уже второй день старуха, напрягаясь, искала в нем что-то, помимо тепла и света, и не могла ни вспомнить, ни найти. Она не тревожилась: то, что должно ей открыться, все равно откроется, а пока, наверное, еще нельзя, не время. Старуха верила, что, умирая, она узнает не только это, но и много других секретов, которые не дано знать при жизни и которые в конце концов скажут ей вековечную тайну – что с ней было и что будет. Она боялась гадать об этом и все-таки в последние годы все чаще и чаще думала о солнце, земле, траве, о птичках, деревьях, дожде и снеге – обо всем, что живет рядом с человеком, давая ему от себя жизнь, и готовит его к концу, обещая свою помощь и утешение.
И то, что все это останется после нее, успокаивало старуху: не обязательно быть здесь, чтобы услышать их повторяющийся, зовущий голос, – повторяющийся для того, чтобы не потерять красоту и веру, и зовущий одинаково к жизни и смерти.
Прибежала Мирониха, с маху шлепнулась на кровать рядом со старухой, и потревоженная старуха, оторвавшись от окна, нашла себя и узнала Мирониху. Мирониха махнула рукой, и старуха вспомнила, что это она про корову, про то, что коровы как не было, так и нет. Где же у Миронихи корова, куда она запропастилась? Старуха стала думать об этом, чтобы подготовить и вернуть себя к разговору, который она потеряла и который Мирониха сейчас продолжит, – ведь надо же будет что-то отвечать ей, а не сидеть истуканом.
Мирониха сказала:
– У вас, старуня, чё-то баня ходуном ходит.
– Баня? – старуха поставила баню на место, где ей полагается стоять, но сразу не поняла, почему она должна ходить ходуном.
– Я бегу, а она то так, то эдак повернется, то одним боком, то другим, – хитрила Мирониха. – В ей у вас кто живет, чё ли, кака испидиция?
– Какая, девка, испидиция, чё ты присбирываешь? Туды, подимте, мои ребяты забрались.
– Все, чё ли?
– Да пошто все-то? Люся ишо утресь на гору ушла, а Варвара куды-то в деревню ухлестала. Мужики там, Илья да Михаил.
– Дак у них кака нужда днем-то мыться? – затягивала на бане петлю Мирониха.
– Мыться?! Ты, девка, как маленькая, ей-богу! – сердилась старуха. – Куды ишо мыться – вторые дни сёдни пошли. Ну. Мыться не мылись, а уж угостились. Горло оне там моют, а то оно, горло-то, заросло, хлебушко уж не лезет.
– Вино, чё ли, пьют?
– Нет, им Надя в тазу воды нагрела, оне ее стаканьями поддеют, стукаются и пьют за милу душу. Уж так сладко – не нарадуются. Ты рази не знаешь: дал бог денежку, а черт дырочку, от и катится божья денежка в чертову дырочку.
Выспросив все, что могла знать старуха, Мирониха добавила:
– Дак оне тамака твои-то, старуня, однако, не одне. Я будто голос Степки Харчевникова оттель слыхала.
– Степки Харчевникова?
– Будто его голос был.
– А какая тут, девка, дивля?! Степка где же обробеет! Он, однако, сухой тоже не живет?
– Однако что, старуня, так.
– Оне пошто так пьют-то? Какая им доспела нужда? Оне ить себя только гробят, боле ничё. В ранешнее время рази так было?
– Не забаивайся. Чё нам говореть про ранешнее время!
– Помнишь, Данила-мельник пил, дак его за человека не считали. Ну, пьянчужка и все. Так и звали: Данила-пьянчужка. Он ить один так пил, боле никто. А тепери Голубев не пьет, дак тепери его за человека не считают, что он не пьет, смешки над им строют.
– Так, старуня, так. Понужнули бы их раз, другой, глядишь, быстренько отпала бы охота в ем купаться. А то ить никакого с их спросу, никакой им кары. Чё хочут, то и делают. У другого собаку выманить нечем, а он пьет-гуляет, как купец какой. Вот и ходют по деревне, вот и ходют, собирают, покамест не насобираются. Он уж стоймя не стоит, а все ему подноси, все мало.
– Дак нет, девка, я когда радиу-то эту слушала, – показала старуха на тумбочку, где стояло радио, – дак там про пьянку эту тоже говорят, что она пьянка, боле ничё. Там ее тоже не хвалят.
– Ну и чё что не хвалят. Много оне слушают? Им не говорить надо, с их спрашивать надо, тогда, может, будет толк. Со своих и с чужих, жалко, не жалко – со всех надо стребовать, чтоб не изголялись над народом.