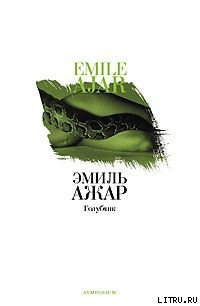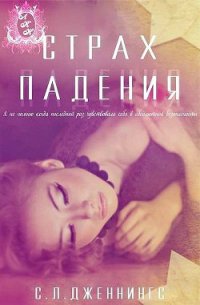Псевдо - Ажар Эмиль (читать книги бесплатно полностью без регистрации txt) 📗
— Ты подонок. Ты никогда не был сумасшедшим. Ты выдумывал, чтобы написать еще одну книгу. Ты всегда все делал как бы вроде, потому что это уловка, чтобы не выполнять никаких обязанностей.
— Да. Копенгаген, больница, все вранье? Ты выкинул деньги на ветер?
— Я хотел, чтоб ты мог спокойно написать свою книгу. Христиансен был не против.
— Христиансен дал мне неопровержимое медицинское заключение!
— Датчане всегда укрывали евреев и помогали им. И вот что я тебе скажу. Я тебе верю. Вероятно, ты убежден, что написал эти письма с отказом от премии и что ты их мне дал. Но поскольку подсознательно ты хотел получить Гонкура, поскольку ты только этого и хотел…
Я заорал человеческим голосом. Я повесился, но, как я уже говорил, это тоже фигура речи. Повеситься трудно, к тому же я боюсь смерти.
Я позвонил в издательство и сказал, что отказываюсь от Гонкуровской премии. Издатель потребовал письменного отказа. Прошло еще два дня. Реклама лауреата шла вовсю. Мне позвонил один приятель:
— Здорово придумал, старик, с этим отказом. Отличная реклама. Одна реклама — Гонкур, другая — отказ. Молодец. Ты гений, Алекс.
Я попробовал стать овощем, но я действительно выздоровел. И потом, какая разница. Если Тонтон-Макут прав и у меня в подсознании сидит литературная премия, значит, я уже как раз и превратился в овощ.
Журналисты окружали дом плотным кольцом. Ночью я брал карабин и стрелял не целясь. Но я не способен никого убить, потому что чужой жизни мне не надо.
Признаюсь, что я оклеветал на этих страницах Пиночета, потому что я бы никогда не смог никого пытать, так почти всегда бывает с мастерами мучить себя.
Я был беззащитен, виден невооруженным взглядом, у меня было сто глаз, и я не мог их закрыть и не видеть себя насквозь. Зажмурю пару глаз, а остальные сорок девять открыты и безжалостно меня видят.
Чем меньше я старался быть, тем больше я был. Чем больше я прятался, тем лучше выходило для рекламы. Все мои тайные уродства становились видны невооруженным взглядом.
То, что врачи называли моими «шизоидными трещинами», закрылось, забилось химически ми веществами, но хотя в таком виде они не давали привычной рутине захватить меня, они замыкали меня в самом себе, и бросающееся в глаза уравнение Ажар=Павлович представляло для окружающего мира одну, единую мишень с четко вычерченными кругами, мишень эта то и дело увеличивалась прессой и делалась все более четкой и, как нарочно, уязвимой. Это выло удостоверение личности во всем своем безобразии.
Когда «Депеш дю Миди» на первой странице опубликовала мою фамилию, минутой позже я был во всех самолетах, которые вылетали из Каньяк-дю-Косса в Камбоджу, потому что красные кхмеры, которые борются там за право быть никем, рассеяли все население Пномпеня по сельской местности, а потом изменили каждому имя и фамилию, чтобы сделать всех неизвестными и необнаруживаемыми. Я хотел отправиться туда, чтобы меня так же рассеяли по сельской местности и избавили от моего состояния. Неизвестный, сын неизвестного отца, необнаружение гарантировано. Жители Пномпеня, лишенные личности и рассеянные по сельской местности, потеряли свои корни, прошлое, свою жизнь по чести и по совести, там были напрасны поиски сыном преступника отца, это было царство счастливых невозможностей и независимостей от воли. В Камбодже всех Павловичей звали по-другому. Но лечили меня хорошо. Химия перекрыла все выходы, и все самолеты на Камбоджу вылетали из Каньяк-дю-Косса без меня.
Моя видимость увеличивалась с помощью фотографий с разных документов, и я боялся сесть за руль, потому что я знал, что Судьба в курсе и рискует вмешаться.
К счастью, одна светская дама, для которой я раньше немного халтурил, удостоверила, что я полное ничтожество, неспособное написать двух строк, и что настоящим моим автором был Тонтон-Макут. Это было очень приятно, как будто, несмотря ни на что, была какая-то иллюзия отцовства, созданная женской интуицией, что-то вроде черновика свидетельства о рождении с целью алкогольной и психиатрической наследственности. Оставался, конечно, диабет, туберкулез и рак, но за всякое признание отцовства надо платить. Слух распространялся вширь, и я снова впадал в несуществование, у меня было все меньше и меньше личности, которую Судьба могла подцепить на свой крючок. Я был всего лишь подставным лицом. Тонтон-Макут выходил из себя, извергал опровержения, возмущался и клялся, что он тут ни при чем. Он прямо из кожи вон лез, как будто ему было стыдно за то, что я писал, за то, чем я был, это было недостойно его, любой вид отцовства он отвергал.
Я принимал тимергил, но, несмотря на все антидепрессанты, я был неспособен устранить себя, в любом случае я был антифашистом и не признавал за собой право на окончательное решение еврейского вопроса. «Нувель Обсерватер» напечатал половину моей фотографии с вопросительным знаком: «Ажар?». Несмотря на сомнение, у меня все-таки было половинчатое существование, как у всех.
И тогда среди ночи, оглушенный антидепрессантами, я сказал сам себе: а что, если избегать себя до карикатуры. Предать себя самосожжению. Паяцствовать до пародийного опьянения, где не остается ни злобы, ни отчаяния, ни тревоги, а только дальний отголосок насмешки над тщетой всех этих чувств.
Я дождался утра и перезвонил Тонтон-Макуту:
— Скажи-ка.
— Да, да, да, что там еще?
— Не волнуйся, папочка.
— Поль, все, что можно, ты уже извлек из этого «папочки». Переходи на что-нибудь новенькое. Обновляй свой талант.
— Звоню тебе, чтобы сказать, что я ошибся. Я не давал тебе никаких писем с отказом от литературной премии. Да и с чего бы…
— С самого начала я бьюсь как рыба об лед, пытаясь тебе это доказать.
— Не с чего мне было это делать, потому что написал мою вторую книгу ты. Не первую, а вторую. Вот почему она лучше раскупалась. Ты собственноручно ее написал.
Вот тут я почувствовал, что я и вправду смог его удивить.
— Да что это за новые бредни? Кстати, ты знаешь, как тебя теперь называют в «Капар Аншене»? Маньяк из Каньяк-дю-Косса.
— Ты автор «Жизни». Так говорят в некоторых газетах, и у меня есть черновик, написанный твоей рукой.
— Поль, ну, в общем, Алекс… Я хотел сказать — Эмиль. Хватит. Я тебе не давал никакого черновика, не знаю, о чем ты говоришь.
— В Копенгагене.
— Что в Копенгагене?
— Знак любви.
— Какой знак любви, дерьмо собачье?
Это его любимое выражение: дерьмо собачье — он всегда громоздит одно на другое.
— Ты помнишь, когда у меня был приступ отверженности? Когда я чувствовал себя отвергнутым целым миром, и прежде всего тобой?
— Я не обязан помнить все твои приступы. Я не веду летопись.
— Вспомни, в Копенгагене. Ты согласился переписать начало книги своей рукой. В черную тетрадь. В знак любви, в знак признания меня? Я знал, что ты был на последнем дыхании, опустошен, загнан в угол… Поэтому, кстати, ты и ездил к доктору Христиансену. Ты уже не мог писать. Я сделал это за тебя. Достаточно меня мурыжили. Я сделаю заявление и скажу, что автор — ты.
Я даже не оставил ему времени на инфаркт, повесил трубку сразу.
Им еще меня не поймать.
Я принялся разыскивать тетрадь, где были его записи. Я ее не нашел. А ведь где-то она должна была существовать.
И тут я чуть не заработал тот самый инфаркт, который готовил Тонтону. Это он сам спрятал тетрадку, рукопись! Он хотел украсть мою книгу, моего Гонкура! Он подло украл его, как какой-нибудь Шолохов, который выкрал первый том «Тихого Дона» с тела мертвого писателя-белоказака, по мнению Солженицына! У меня свидетель, Солженицын! Он с самого начала все задумал, когда предложил мне переписать своей рукой несколько первых глав! Ведь это он мне предложил, я прекрасно это помню! Дьявольская мысль, типичная выдумка таитянского колдуна и Тонтон-Макута! Он потребует себе Гонкуровскую премию, почести, бабки… Все бабки!