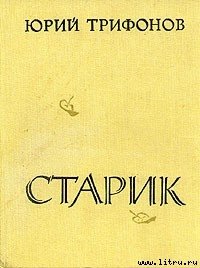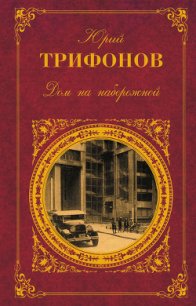Дом на набережной - Трифонов Юрий Валентинович (книги бесплатно без регистрации полные .txt) 📗
– Может, и не надо было. – И опять рассматривала его, улыбаясь и с изумлением. – Тут западня. На твоем месте я бы им ответила знаешь как?
– Как?
– Я бы сказала: послушайте, ведь это ужасно неделикатно! Вы не находите, что это неделикатно?
– Я пытался их вразумить, – соврал он.
– Откуда стало известно? Почему об этом говорят? – Голос ее дрожал, на глазах появились слезы. Он порывнулся обнять ее, но она легко и гибко, необычным для себя кокетливым движением отстранилась от его руки. – А то, что случилось с нами, касается только нас двоих.
– Честно, я был обескуражен… Я объяснял, – бормотал Глебов, продолжая врать, – о том, что бестактность…
– Ты объяснял? Сказал, что досужие вымыслы? – Соня вновь улыбнулась. – Я говорю, тут замечательная западня! Нет, Дима, все это кошмар. Не надо впутывать в наши отношения отца. У мамы тоже сейчас неприятности: ее вызывал Дороднов и сказал, что ей надо сдавать экзамены. Чтобы получить диплом советского вуза и иметь право преподавать. У нее диплом Венского университета. Она двадцать лет преподает. Смешно, правда? – Соня взяла его за руку. – Дима, я хочу тебе сказать: ты абсолютно свободен. Делай так, как тебе нужно. И, ради бога, никаких насильственных поступков… Ты понимаешь меня?
Он угрюмо кивнул. За ужином Юлия Михайловна, крайне возбужденная, рассказывала о разговоре с Дородновым. О том, как Дороднов был учтив и любезен, как складывал губы сердечком, называл ее «милая Юлия Михайловна» и вообще изображал дело так, будто сам он не имеет к этой интриге никакого отношения. Будто некие люди, бюрократы, лица и имени не имеющие, требуют соблюдения формальностей. Опять формальности! Дороднов сокрушался, извинялся. Но, когда Юлия Михайловна заметила, что, хотя Сима, другая преподавательница, законспектировала всю подряд «Диалектику природы» Энгельса, она все равно знает немецкий много хуже, чем Юлия Михайловна, и так это останется на веки вечные, Дороднов вдруг округлил глаза и руками всплеснул: «Юлия Михайловна, неужто вы отрицаете тот факт, что язык – явление классовое?» Юлия Михайловна смеялась, рассказывая. Ганчук тоже то смеялся, то хмурил брови. Ни о чем другом, кроме этой анекдотической новости насчет сдачи экзаменов, за столом не говорили. Было много шума, предположений, догадок, смеха, Юлия Михайловна обнаружила актерский дар и комично пародировала Дороднова, Куник рассказывал о каких-то историях, случившихся в академическом институте, сестра Юлии Михайловны Эльфрида Михайловна, тетя Элли, как называла ее Соня, совсем непохожая на сестру, полная, самоуверенная дама, крашеная блондинка, громко и возмущенно обличала бюрократизм. Эльфрида Михайловна была журналисткой, работала на радио. Она напомнила слова Ленина о том, что борьба с бюрократизмом потребует десятилетий. Что для успеха этой борьбы нужна поголовная грамотность, поголовная культурность. И что бюрократизм, конечно, есть проявление мелкобуржуазной стихии, о чем забывать нельзя. В присутствии Ганчука тетя Элли говорила поучительным, категорическим тоном, как будто профессором была она, а не он. Вообще эта женщина была Глебову несимпатична, может быть, потому, что – он чувствовал – и он был чем-то несимпатичен ей. Он платил людям той же монетой. В ней был снобизм. Она иногда не замечала его приветствий или же едва кивала с подлым высокомерием. В ее манере было перебивать его за столом. А что уж так зазнаваться? Неудачная публицистка, липовая международница. Его не примиряло с тетей Элли даже то, что та считалась семейным героем: две недели работала корреспондентом в Барселоне во время войны. Потом за что-то отозвали. Вероятно, за глупость. Тетя Элли спросила: «Интересно, какого происхождения этот ваш Дороднов? Готова держать пари, что не пролетарского».
Юлия Михайловна сказала, что про Дороднова не знает, но про Друзяева известно точно: он сын мельника. «Voila! Прикрываются марксистскими фразами, а попробуй их поскреби…» Но Ганчук сказал, чтоб не обольщались: Дороднов неплохого происхождения. Он из семьи железнодорожника. Все не так просто, дорогие мои. «А ты не ошибаешься?» – упорствовала тетя Элли. К концу ужина все немного успокоились, смехотворность эпизода с Дородновым была исчерпана, и Юлия Михайловна с тетей Элли сели за пианино и играли в четыре руки. Ганчук с Куником ушли в кабинет работать.
И все-таки Соня была совсем другая! Она все видела иначе, не так, как родные. И втихомолку подшучивала над ними. Вдруг сообщила Глебову шепотом: «А знаешь, кем был отец моей мамы и тети Элли? Сыном венского банкира, правда, разорившегося…»
Кажется, она одна замечала смешное в том, что смеялись над Дородновым, и в ее улыбке была грусть.
Поздно, когда выходил из Сониной комнаты, шел через темную столовую, он увидел, как сестры – одна хрупкая, тонконогая, другая полная, задастая, с маленькой головкой, как баба на чайник, – стояли, обнявшись и покрывшись одной шалью, у окна, смотрели на россыпь огней внизу и что-то пели негромко, покачиваясь, очень красиво.
И еще помню, как уезжали из того дома на набережной. Дождливый октябрь, запах нафталина и пыли, коридор завален связками книг, узлами, чемоданами, мешками, свертками. Надо сносить всю эту хурду-мурду с пятого этажа вниз. Ребята пришли помогать. Какой-то человек спрашивает у лифтера: «Это чья такая хурда-мурда?» Лифтер отвечает: «Да это с пятого». Он не называет фамилии, не кивает на меня, хотя я стою рядом, он знает меня прекрасно, просто так: «С пятого». – «А куда их?» – «Да кто их знает. Вроде, говорят, куда-то к заставе». И опять мог бы спросить у меня, я бы ему ответил, но не спрашивает. Я для него уже как бы не существую. Те, кто уезжает из этого дома, перестают существовать. Меня гнетет стыд. Мне кажется, стыдно выворачивать перед всеми, на улице, жалкие внутренности нашей жизни! Мебель в громадной квартире казенная, она вся остается. Пианино мы продали год назад. Ковры тоже продали. Но я так привык к этим столам, стульям с жестяными инвентарными номерами, к тяжелым квадратным креслам и диванам, обитым шершавой тканью с запахом дезинфекции! К дверям с матовым зернистым стеклом в мелком переплете и к обоям, которые теперь, после того как сняты фотографии – с пятнами невыгоревшего цвета, – приобрели какой-то грязноватый и голый вид. Все это еще почти свое, но уже чужое. Я стою в нерешительности перед картой Испании. Брать, не брать? Семь месяцев назад пал Мадрид. Кончилась страстная забота, осыпались флажки. «Брать! – говорит Антон. – Она еще нам пригодится». – «Дай ее мне», – говорит Вадька Батон, явившийся без приглашения. Он повсюду таскается за Антоном, как рыба-прилипала за акулой. Входит бабушка и говорит: «Если не возьмешь карту, я заверну в нее мясорубку». Нет, я возьму ее. Отдираю кнопки, снимаю карту и складываю ее в восемь раз, так что получается пухленькая брошюрка. Ее можно положить в карман пальто. Эта карта до сих пор среди моих книг на полке. Прошло много лет, я ни разу не развернул ее. Но то, что вобрало в себя так много страданий и страсти, пускай детских страданий и детской страсти, не может пропасть вовсе. Кому-нибудь все это да сгодится. Тогда, под дождичком, возле сложенной горкою хурды-мурды, в ожидании грузовика…
«А та квартира, – спрашивает Батон, – куда вы переедете, она какая?»
«Не знаю», – говорю я.
Но я знаю, бабушка говорит, что место очень хорошее, рядом парк, много зелени, замечательный воздух. Правда, ездить бабушке на работу будет далеко. Сначала трамваем до заставы, потом автобусом, всего около часа. Но хорошо то, говорит бабушка, что в трамвай и в автобус она будет садиться на конечных станциях, в пустые вагоны. Мы будем жить в одной маленькой комнате в общей квартире. Комната на солнечную сторону и во двор. «Очень хорошая комната!» – говорит бабушка. Всего этого не хочется рассказывать Батону. Нет настроения говорить с ним. Если б он знал, как тяжело у меня на душе! Вот они прибежали, дурачатся, шутят, помогают носить вещи, у них прекрасное настроение, и неужели они не догадываются, что мы видимся, может быть, в последний раз? Им хорошо, они остаются вместе. А я – в неизвестную жизнь, к неведомым людям. Где я встречу таких товарищей: ученых, как Антон, остроумных, как Химиус, и добрых, как Ярик? И еще самое главное. Самое-пресамое главное и тайное. Где еще я встречу такого человека, как Соня? Да, разумеется, нигде на целом свете. Бесцельно даже искать и на что-то надеяться. Конечно, есть люди, может быть, красивее Сони, у них длинные косы, голубые глаза, какие-нибудь особенные ресницы, но все это ерунда. Потому что они Соне в подметки не годятся. Проходят минуты, день смеркается, скоро подъедет грузовик, а Сони нет. Ведь всем известно, что сегодня наступает разлука. Почему же хоть на секунду, хоть оттуда, издалека? Но нет, нет и нет. Батон спрашивает: «Сколько комнат? Три или четыре?» – «Одна», – говорю я. «И без лифта? Пешком будешь ходить?» Ему так приятно спрашивать, что он не может скрыть улыбку.