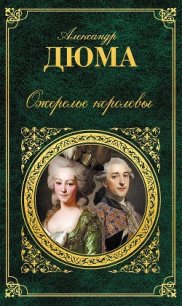Ожерелье Мадонны. По следам реальных событий - Блашкович Ласло (книги читать бесплатно без регистрации txt) 📗

И вот стою я здесь, у тюремного окна, с печального подоконника которого беззубый кот изгнал всех птичек. Напрасно я посыпаю жесть, как солью, окаменевшими крошками. Ни одно крылатое не смеет сюда прилетать, только комары и ангелы. И чем больше я смотрю на внешний мир, тем все более явно и упорно он искажается. А поскольку в часы досуга причудливые картины — нормальное явление, то и у меня по затылку (где под косточкой пылится мозжечок) скользит известная ассоциация, воплощенная аллюзия (картина находится где-то у Данило Киша), и она бесконечно повторяет молодого Бодлера, который из похожего окна, правда, значительно большего размера, обрамленного парчовыми гардинами (но с ничуть не менее ощутимыми решетками — хотя формально они невидимы — якобы неспособности и незрелости поэта, не позволяющими ему по-настоящему увидеть этот мир), наблюдает, стало быть, восстание, баррикады, одну из Свобод, которая с обнаженной сияющей грудью ведет за собой недостойную чернь …
А что, пишет ли детский писатель и для лилипутов, — Ладислав с сидящим на его плече Жигулем развеивает мои литературные фантазии, отгородившись макетом Кьеркегора.
Я вздыхаю так глубоко, что чувствую в указательном пальце покалывание. Я ведь из тех, у кого, как говорится, не было детства. Я должен был пробиться сам. Все прочее — трюки. Например, когда стоишь по колено в воде, убеждая всех, что коленопреклоненно молишься. Когда, как Лотрек, подпрыгнув, вопьешься зубами в грудь проститутки, и висишь так, болтаясь в воздухе. Это не отказ от ответственности, а глубокое осознание того, что нет никого, кто нас уложит в кровать, поцелует на ночь, убаюкает. Есть ли еще какие-то причины для писательства?
Теперь даже и мой собеседник посерьезнел:
В чем же все-таки цель всего этого?
Быть хорошим, — отвечаю я, наконец.
Хорошим? — Деспот рассмеялся, как привидение, и кот на его плече инстинктивно выгнул спину.
Иоаким вскрикнул во сне, как будто дожидался этих слов. Я и в самом деле не знал, что один робкий педагогический императив может быть большей провокацией, чем кошачий чих под заснеженной горой, под витыми сталактитами.
Если кто-то при мне об этом упоминает, — с умилением начал Деспот, — я первым делом вспоминаю своего отца. Бедняга, он был настолько хорошим человеком, что вызывал жалость. Он был такой тонкий и ранимый, что я бы с огромным удовольствием от него сбежал. Скорее заплачешь от благодушия, чем от дыма, или успокаивающего укуса бульдога, или объятий. Это лучше выпивки или слезоточивого газа. Доброта удушлива, она вызывает клаустрофобию, как могила. Жизнь где-то вовне, на другой стороне улицы. На самом дне канализационной канавы. Зачем ты нам нужен, ты, добряк, кричали ему мы, дети. Напрасно ты расшибался в лепешку.
От пароксизма смеха Деспот поперхнулся и ударился в плач.
Ты смотри, и я бы так сумел, подумал я, почти счастливый, пока санитар заталкивал просроченную таблетку успокоительного в слюнявые губы Деспота.

Выйдет из этого хоть что-нибудь, — спросил однажды господин начальник, на его лысине отпечатались мои пальцы. Ежедневная служебная меланхолия была отягощена дополнительным несчастьем — попугая обнаружили мертвым на улице, издохшим от ненужных усилий. Болтали разное: что он взлетел во сне и сорвался с краешка котла, что его замучили до погибели, что он помер своей смертью (никто ведь не видел его свидетельства о рождении), знаете, как это бывает с тоскующими непогребенными. Короче, директор сидел и дул в дрожащие перышки коченеющего тельца, все дальше уходившего от мира святых, и толковал, что роскошная драматическая постановка сейчас пришлась бы по душе всякому, у кого она есть.
Где-то у меня такое было, — уверял я директора неубедительно, пытаясь припомнить, откуда мне знакомо это неподвижное лицо. — Да только сейчас нет.
А тот все так же … вопросительно глянул директор. Мне все время звонят из-за него, не верят.
Чем же он перед богом-то провинился, — я почувствовал, как у меня горят подушечки пальцев.
А что ты думаешь? Посмотри, какой он здоровенный. Этот, не дай бог, очнется, передушит вас как котят. Его пырнули ножом в каких-то беспорядках, сам знаешь, какие теперь времена. Привезли сюда, он ведь из наших мест. Хлопочи теперь над ним, сучонком террористическим, а то меня эти, из гуманитарных организаций, распнут … Ну, ладно, ладно, а с тобой-то что? Директор стряхнул меня с головы. — В следующий раз хочу рассказ.
Рассказ. Легко сказать. Думаешь, он здесь, близко, надо только переписать жизнь, а как возьмешься, вот и нет. Я знаю, дети, что могу вам подсунуть все, что угодно, например и порнофильм, как средство воспитания. И боевые искусства. И братоубийственную войну. История — полигон для идентификации.
Как бы ты, малыш, описал эту тюремную камеру? Как свою комнату, говоришь? Неплохо. Было бы остроумно, не будь ты второгодником; кто-нибудь еще?
Каждый хотел бы излагать в форме «я-повествования»? Как это: неважно, какой свет? Как это: бог подразумевается? По-вашему получается, подразумевается и жизнь.

Не годится. Мне знакомо это лицо, — говорю я, наконец Ладиславу. Он смотрит на меня с удивлением, что-то записывает в макете. Пастушка Эйфелева башня, например, в звательном падеже. Со стадом будущих развалин.
Мехметай, Верим. Друг детства, можно сказать. Чтобы не сомневаться и в друзьях, и в детстве. Нас ставили в пару в детской деревне, в Каменице, отсюда на расстоянии винтовочного выстрела. Это был современный детский дом, по какому-то западному педагогическому рецепту, скрещенному с опытом упадочного социализма.
У нас не было родителей, ни у меня, ни у него, нас опустил в чужие колыбельки промахнувшийся аист. Мы жили в приемных семьях, вдохновленные некоторым родством, в ложном гипнозе, как общие дети потерянного племени, Платоновых педагогических галлюцинаций. И жизнь временами напоминала педагогическую поэму, выводившую дрожащим голосом свою арию.
Я тогда украл из библиотеки «Книгу об операх» Йозефа Шульгофа, в которой собраны сюжеты многих музыкальных драм, автор пересказывает их сжато и мило, она все еще здесь, у меня под подушкой, хотя и истрепалась от частого употребления. В ней и по сей день я нахожу помощь, суфлера, миф, сюжет. И по поводу моей пьесы я с ней консультируюсь, вновь и вновь перечитываю ее, когда сплю, она приятно давит мне на темя, и я ищу соблазнительный сюжет в «Кольце Нибелунгов», «Нищем студенте» или в «Ожерелье Мадонны». Например, эта последняя, трагическая, из тогдашней жизни:
Некий парень жутко втрескался в дочку своего отчима. Она ему отказала, поскольку считала братом, хотя это и не препятствие, если бы она не влюбилась в другого, какого-то мафиози, которого мужчины боятся, а женщины сходят по нему с ума. Он отвечает девушке взаимностью, однако ее пугает сияние его сексуальной звезды, все эти прелестницы, раздевающие взглядом, и потому требует, чтобы тот в доказательство любви ограбил in ювелирную лавку «Мадонна».
Их телефонный разговор подслушивает потерявший голову от страсти сводный брат, шпионящий влюбленный. Он запирает step сестрицу в доме и сам крадет украшения.
Пока он возится с сейфом и сигнализацией, появляется влюбленный мафиози, неотразимый, неумолимый, легко проникает к любимой, усыпив питбуля специально отравленной колбасой. Но в момент увертюры, чтобы не сказать — во время музыкального петтинга — звонит его мобильный телефон, он отправляется решить вопрос с товаром на границе, разминувшись с братцем-соперником, появляющимся на сцене с бриллиантовыми цацками, при этом раздумывая продолговатым мозгом то ли о счастье и любви, то ли, как поступить с товарными остатками. Сестра Батрича (потому что парня можно бы назвать Батричем, чтобы удовлетворить черногорским требованиям!), ослепленная счастьем (частью от понюшки кокаина, частью от мерцающих звездных побрякушек, которые все, как одна, настоящие), падает в порочные объятия Батрича, полагая (бедняжка) что это и есть тот самый ее Паваротти, у которого и член, и ствол тверды, как алмаз, а в это время мафиози «перетирает» с каким-то совсем не наивным Таможенником.