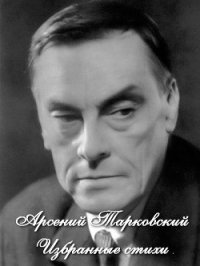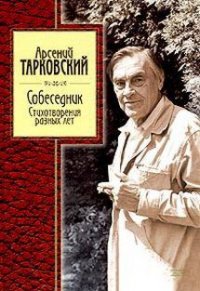Полёт совы - Тарковский Михаил Александрович (книги без регистрации бесплатно полностью сокращений txt) 📗
— Подождите, подождите, тёть Кать. Успокойтесь. А вы с Николаем-то говорили?
— Ково говорела?! Говорела… Да он… — Посмотрела на меня как на ребёнка: — Он бегат от мене. Бе-гат! Я вижу, он вот токо удровенника стоял, чурку колол, я ви-и-дела…. Я к нему — а его и след простыл. Мне где выгнать-то его? — показала на палку: — Со шкандыбой этой!
— Ну вы домой-то ходили к нему?
— Как не ходила-то? Ходила, грю. Да чёрт его дома удёржыт! Шарится где-то… Шатучии, что он, что кобель, этот сука бессовестный… Никакого-ка отступу не даёт… До того напрокучил мне… Сколь я натерпелася я с ним… Ну а теперь всё — привадился… Теперь его вагой из моей ограды не вывернешь. Ой-ёй-ёй… Я, главно, палкой на него, — а он в рык, и глядит ишшо на меня… И главно, такой разва-а-аженный… — протянула она капризно и показала, как он, развалясь, смотрит с прищуром. — Ишшо подмаргиват… Ты ково подмаргивашь? Моргач. Я те поподмаргаваю! — Она уже сидела, постукивая палкой. — Я Ларисе говорела: пошто не привязываете собаку? — продекламировала она официально. — А Лариса чо? Она сама его боится… Он такой заедливый… Он, грит, только Кольчу слушат… Так и говорит. А Колька его покрыват и меня бегат. А мать есть мать. Я те боле скажу: у йих кругова порука: мать — сына покрыват, а сын — кобеля. Хотела ишшо к этой-то директорше… к весноватой-то этой… как её, Валя… Или к мужу её, Мотьке, хороший мужик, только бражка его загублят… Дак вот и думаю, пойду к учетелю… Он мужчина отдельный… Пушшай меры принимат… А еслив нет, дак я в совет прямиком, скажу, участкового вызывайте.
Я как мог успокоил Бабу Катю и, проводив, едва занес перо над бумагой, чтобы записать слово «весноватая», как раздумье моё прервал оглушительный треско-стрёкот, внезапно замерший напротив моего дома. Под нарастающий лай Храброго ко мне ввалился крайне возбужденный Эдик и попросил воды. Я тут же протянул ему кружку, но что он рыкнул: «Да не то! Литррров пять! Ведерррко, коррроче».
Пришлось накинуть фуфайку и идти в баню за ведром. На улице стояло странное сооружение. Железная снегоходная коробушка из развёрнутой бочки с деревянными бортиками, а на ней на стойке из необрезной доски — двигатель, к которому приделан деревянный винт. Сзади вертикально торчала доска с зелёным пластмассовым умывальником наверху. Он соединялся шлангами с мотором.
— Это что за, — я хотел сказать «тарахтат», — агрегат?
— Аэросани, — солидно объяснил Эдуард.
Самое поразительное, что в качестве мотора на аэросанях была голова от моего «вихря», которую я узнал по крашеному маховику. Установленная на боку, с присобаченными каким-то топорным креплением на толстую проволоку винтом. Винт был грубо вырублен из кедровой плахи. Огромный штабель винтов с занозистыми краями, с глазками сучков, как дрова, лежал в корыте и занимал его добрую половину. Лопастей было такое количество, будто они штатно отстёгивались в процессе лёта.
— Как ступеня ракеты… Ты что… топишь ими?
— Да нет. Я шаг подбираю. Угадать не могу. — И стал, перекладывая, гремя ими, показывать: — Вот этот на двадцать шесть, вон здесь зарубка у меня, эти на двадцать восемь… У меня дома ещё… два комплекта. И в плахах три куба лежит. Всё обтесать руки не доходят.
Последовало долгое объяснение аэродинамических свойств винта, где главным было понятие «давит», причём он с силой показывал рукой, как именно «лопастя давят», и так сморщивался, будто тоже изо всех сил создавал тягу и давил всё, что можно.
Забыл сказать главное: ведро он вылил в умывальник «системы охлаждения», так как винтом перерубило шланг, который он быстро заменил запасным — видимо, эта неисправность была привычной:
— Нагрелся, как утюг. Щас я запушу, а ты подтолкнёшь.
Я вообще-то совершенно не собирался участвовать в этом аэропробеге, тем более вышел полуодетый. Но Эдя настолько не сомневался в том, что его предприятие не может не вызывать страстного желания в нём поучаствовать, что невозмутимо достал из кармана верёвку с деревянной ручкой, намотал на маховик и начал дёргать. Мотор не заводился, да и не особо спешил проворачиваться вместе с лопастями.
— Подкачать надо, — прокомментировал он, словно это было показательно-обучающее выступление.
Эдя подкачал грушей и ещё некоторое время маслал мотор до одышки, пока не произнёс фразу, от которой у меня открылся рот. Он вручил торжественно дёргалку и сказал:
— На ты. Задолбался.
Это, видимо, означало новый этап доверительности, возникшей по ходу нашего сближающего дела. Я не знал, смеяться или каменеть оттого, что шаг за шагом втянулся в эту свистопляску и почему-то оказался обязан дёргать Эдино изделие. Но добавлялся ещё смысл. Эдя передавал подергушку мне как хозяину мотора, знающего его и будто бы несущего ответственность за его состояние, за сделку вообще, а теперь и за всё это предприятие. И даже больше того — ещё и виноватому и чуть ли не «впарившему барахляный» мотор. Мол, давай уж впрягайся, раз такой оборот.
Я, как заколдованный, несколько раз дёрнул, отметив, что дело действительно потное и одышливое. Потом дёрнул отдышавшийся Эдуард, мотор завёлся, и Дон Эдуардо, сунув шморголку в карман, с криком: «От винта!!!» — прыгнул в корыто. Я стал толкать. Корыто не ехало. Эдя заорал: «Толка-ай!» Потом выбрался на землю, и мы вместе сдвинули аэросани. Эдя впрыгнул и под дикий стрёкот стал очень надрывно и медленно удалятся.
А я расстался с планом «тихое утро» и пошёл к Косте Козловскому, который обещал показать берестяные поплавки.
* * *
Козловский — приезжий ещё больше, чем я, но его чужеродность перевешена искренне-священным интересом ко всему плотницкому, столярному, природному, вообще ко всему ремесловому и промысловому. В работе с деревом и металлом он доходит до полного инженерного совершенства и далеко превосходит всех местных и приезжих. К тому же ничем больше и не занимается. Ремёслам он уделяет времени сколько хочет, и если любой здешний житель делает топорище за полчаса, то Костя уделит сутки, но изготовит абсолютное выставочный образец.
Его отличает доброта, многими воспринимаемая как наивность или чудачество. У него замечательная искренняя улыбка. Он отзывчив и выручает от души.
Козловский полный, светло-русый, с розовыми щеками. Очень курносый и какой-то ноздристый, нос крупный и от этого несколько кабаний вид. Губы тоже крупные, расстояние от носа до верхней губы большое. Крупен… как сказать-то… весь ротовой узел или то, что называется уже в кабаньей терминологии одним грубоватым словом, неприменимым к человеку, если б сам Козловский, описывая кого-то и расплываясь в безоружной улыбке, не сказал, что у того, мол, «ярко выраженное рыло, ну не такое, конечно, как у меня», — и засмеялся, открывая зубищи и добрейше морща означенную часть.
Я внимательно отношусь к описанью бород, потому что это действительно традиционное наше явление. Бороды обычно носят люди спокойные: почвенные и конфессиальные. Хотя у самых склочников и фыркачей тоже в почёте бороды, причём самые неряшливые! Я это к тому, что борода — лишь оклад, поэтому к сути, к сути, к сути! Когда идёшь к сути, ступени не кончаются! Или так: когда идёшь к сути, её миражи отстреливаются, как ступени.
Так вот, бороды… Помните у Гоголя: Чичиков был «не толст, не тонок»… Зачин замечательный! Борода у Кости не жидкая, не густая, не окладистая и не лопатистая, не клиновая, не двухвостая… А такая… бахромчато-лучевая, лик в разные стороны обрамляющая. И растёт она, отступя от рта за некую нейтральную полосу, в полподбородка оставляя свободное пространство для обнаружения нелегально мигрирующих рыбьих костей и хлебных крошек. Щёки у Кости розовые, с резкой границей, как и у Гурьяна. И Костя вроде бы точно такой же, как остальные мужики или староверы из соседнего посёлка, но только и румянец, и борода… ну как-то нежнее, что ли, если такое слово к мужику применимо. Так отличается ёлочка, взрощенная в средней полосе на садовом участке, от таёжной, стиснутой мерзлотой и ветрами.