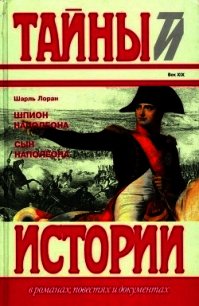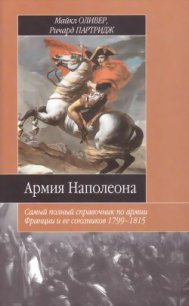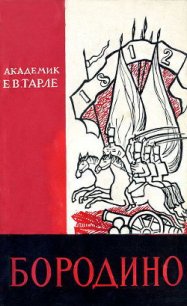Триумф и трагедия императора - Тарле Евгений Викторович (лучшие книги .TXT, .FB2) 📗
Совсем недавно (в 1936 году) опубликованные документы голландского государственного архива обнаружили, что Талейран умудрился даже и тут, в Лондоне, создавая независимую Бельгию, ведя, казалось бы, совсем непримиримо враждебную политику против Нидерландов, получить от того же нидерландского короля взятку в десять тысяч фунтов стерлингов! Получил он ее за некоторые поблажки в пользу Голландии при окончательном определении границ между Голландией и Бельгией, за некоторые уступки территориального и финансового характера, сделанные им в пользу Голландии за счет Бельгии. Это совсем новое документальное открытие поразило удивлением историков, которых, казалось бы, уже ничто не могло увидеть в князе Талейране. Миллионер, чрезвычайный и полномочный представитель Франции, старик на краю могилы, продолжал брать и брать совсем ему уже ненужные взятки, — очевидно, просто по привычке, как другие до старости отдаются любимому спорту, — как Гладстон, например, до восьмидесяти лет рубил дрова или как философ Кант до глубокой старости в любую погоду совершал свою ежедневную прогулку.
Талейран упорно настаивал перед королем Луи-Филиппом и всеми министрами, менявшимися за время его лондонского посольства, что спасение Франции и особенно династии Луи-Филиппа — именно в теснейшем союзе с Англией. Ему удалось вскоре (в апреле 1834 года) подписать даже конвенцию с Англией, Испанией и Португалией по ряду крайне важных вопросов. Дипломаты даже враждебных держав изумлялись энергии и дарованиям восьмидесятилетнего хилого старика. Дарья Христофоровна Ливен, жена русского посла князя Ливена, бывшая значительно умнее своего супруга и, вследствие этой своей особенности, получившая поручение лично, без посредства мужа, систематически доводить до сведения Николая обо всем, что творится в Лондоне, писала своему родному брату, генералу Бенкендорфу, шефу жандармов, о князе Талейране по поводу его блистательных дипломатических достижений в это время: «Вы не поверите, сколько добрых и здравых доктрин у этого последователя всех форм правления, у этого олицетворения всех пороков. Это любопытное создание; многому можно научиться у его опытности, многое получить от его ума; в восемьдесят лет этот ум совсем свеж… Но это — большой мошенник, — c'est un grand coquin», настаивает княгиня Ливен.
II
Старик слабел физически. В конце ноября 1834 года он упросил Луи-Филиппа дать ему отставку. Князь Талейран, по его собственному выражению, за время пребывания на посту посла в Лондоне успел «дать Июльской революции право гражданства в Европе», укрепил престол Луи-Филиппа, создал самостоятельное Бельгийское королевство. В семьдесят шесть лет он начал этот последний перегон своего долгою и замечательного пути и в восемьдесят лет окончил его.
Он удалился в свой великолепный замок Валансэ, превосходивший размерами и неслыханной роскошью дворцы многих монархов в Европе. И здесь, спокойно, без излишнего любопытства и бесполезных волнений, как и все, что он делал в жизни, он стал ждать прихода той непреодолимой силы, для борьбы против которой даже и его хитрости было недостаточно (по злорадному предвкушению одного из враждебных ему публицистов). «Я ни счастлив, ни несчастлив… — писал он в эти последние годы своей жизни. — Я понемногу слабею и… хорошо знаю, как все это должно кончиться. Я этим не огорчаюсь и не боюсь этого. Мое дело кончено. Я насадил деревья, я выстроил дом, я наделал много и других еще глупостей. Не время ли кончить?» Жена его умерла. У него постоянно жила его племянница, герцогиня Дино, интимный и самый близкий для него человек. Детей «законных» за ним не числилось. Сын его от госпожи Делакруа, знаменитый уже с двадцатых годов гениальный французский художник Эжен Делакруа, мало общался с отцом.
Общий вид замка Валансэ.
Но Талейран и сам искал в эти последние свои годы полного уединения и покоя. Его корыстолюбие уже давным-давно было удовлетворено, честолюбие его не мучило. После окончательного ухода от дел он прекратил даже игру на бирже. В газетах, журналах, отдельных памфлетах, иллюстрациях постоянно поминалось его имя, оценивалась его долгая деятельность, отдельные фазисы этого изумительного существования. Но князь не читал большинства из этих бесчисленных статей, — а когда и читал, никогда на них не возражал и вообще никак не реагировал.
Обошел он молчанием и ту знаменитую характеристику свою, которую прочел во второй октябрьской книжке «Revue des deux mondes» за 1834 год; эта статья принадлежала перу уже входившей тогда в славу Жорж-Санд и называлась «Князь». Фамилия не была названа, но изложение было более чем прозрачным. Курьезно, что самая статья была вызвана посещением замка Валансэ, куда Жорж-Санд и Альфред Мюссэ явились для осмотра его достопримечательностей (Талейран разрешал путешественникам осматривать его прославленные по всему свету роскошные палаты, хоть и не допускал никого в свои жилые комнаты). На Жорж-Санд пахнуло в этих великолепных залах князя Талейрана такими трагическими воспоминаниями, что она не воздержалась от самой резкой филиппики: «Никогда это сердце не испытывало жара благородного деяния, никогда честная мысль не проходила чрез эту неутомимую голову; этот человек — исключение в природе, он — такая редкостная чудовищность, что род человеческий, презирая его, все-таки созерцал его с глупым восхищением». Ей ненавистна даже наружность Талейрана: презрительное, надменное и вызывающее выражение его лица; она все думает и думает о его прошлом и о том, почему все властители Франции в нем нуждались: «Какие же кровавые войны, какие общественные бедствия, какие скандальные грабительства он предупредил? Значит, так уж он был необходим, этот сластолюбивый лицемер, если все наши монархи, от гордого завоевателя до ограниченного ханжи, навязывали нам позор и стыд его возвышения».
Талейран привык к такому тону; о нем редко писали иначе при его жизни, в те периоды, конечно, когда французская пресса была сколько-нибудь свободна. И всегда наблюдалась раздвоенность в настроении пишущих: полнейшее, безусловное, безоговорочное презрение к характеру — и столь же безусловное преклонение пред колоссальными умственными средствами, проявленными на дипломатическом поприще. Талейран по-прежнему очень философски относился ко всему, что писалось о нем, и даже эта портретная живопись Жорж-Санд совсем ненадолго и очень немного его огорчила.
Жорж-Санд судила Талейрана с исключительно моральной точки зрения. Почти одновременно с ней высказался о Талейране молодой блестящий публицист германской радикальной буржуазии Людвиг Бёрне, который отрицает даже самую разумность чисто моралистического подхода в данном случае. Он оценивает лишь объективные результаты деятельности знаменитого дипломата, — и оценивает их высоко. Читатель найдет это замечательное место в тридцать седьмом письме Бёрне из Парижа, от 24 февраля 1831 года:[В только что вышедшем очень хорошем переводе «Парижских писем», изданном Гослитиздатом в Москве (1938), оно помещено на стр. 148–149.]
«…Наконец Талейран. Я никогда его не видел даже на портрете. Бронзовое лицо, мраморная доска, на которой железными буквами написана необходимость. Я никогда не мог понять, почему люди всех времен так не понимали этого человека! Что они порицали его, это хорошо, но слабо; добродетельно, но неразумно; эти порицания делают честь человечеству, но не людям. Талейрана упрекали за то, что он последовательно предавал все партии, все правительства. Это правда: он от Людовика XVI перешел к Республике, от нее — к Директории, от последней — к Консульству, от Консульства — к Наполеону, от него — к Бурбонам, от них — к Орлеанам, и, может быть, до своей смерти от Луи-Филиппа снова перейдет к Республике. Но он вовсе не предавал их всех: он только покидал их, когда они умирали. Он сидел у одра болезни каждого времени, каждого правительства, всегда щупал их пульс и прежде всех замечал, когда их сердце прекращало свое биение. Тогда он спешил от покойника к наследнику, другие же продолжали еще короткое время служить трупу. Разве это измена? Потому ли Талейран хуже других, что он умнее, тверже и подчиняется неизбежному? Верность других длилась не больше, только заблуждение их было продолжительнее. К голосу Талейрана я всегда прислушивался, как к решению судьбы. Мне еще помнится, как я испугался, когда, после возвращения Наполеона с Эльбы, Талейран остался верен Людовику XVIII. Это предвещало мне гибель Наполеона. Я обрадовался, когда он объявил себя сторонником Орлеанских: из этого я заключил, что Бурбонам конец. Мне хотелось, чтобы этот человек жил у меня в комнате: я бы приставил его, как барометр, к стене и, не читая газет, не отворяя окна, каждый день знал бы, какова погода на свете».