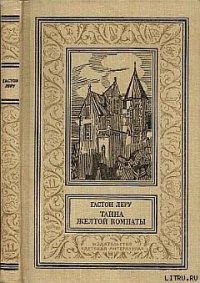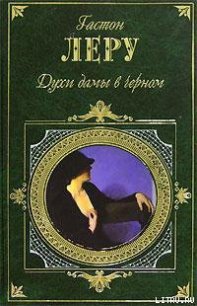Дар речи - Буйда Юрий Васильевич (читать полную версию книги .txt, .fb2) 📗
– Видишь ли, мы давно жили по отдельности. Бедный Жан-Пьер оказался импотентом. Да я и не интересовалась его клиникой – зачем мне это? Изредка он заглядывал сюда, а остальное время проводил в клинике, и меня это устраивало. Ну да, было в нем что-то нездоровое, что-то настораживающее, но надо признать: он никогда не был скупцом, если я просила денег на хобби…
– Хобби?
– О, это долгая история, а времени у нас мало – только на секс и осталось.
И мы занялись тем, на что осталось время.
Хотя Моника и предупреждала меня, что важнейшим цивилизационным достижением французов до сих пор остается высокоразвитая бюрократия, я не ожидал, что события будут развиваться с такой скоростью.
В первый же день за обедом мы подписали меморандум о сотрудничестве между «Sou de Cuivre» и издательством Арто, а следующим утром – и договор, в котором пункт за пунктом описывались обязанности и ответственность сторон, а также план действий на год.
Наверное, это были счастливые времена для русской литературы – все ждали от нее чудес: многим казалось, что освобожденная словесность не сегодня завтра явит изумленному миру новых Толстых и Достоевских. Конрад же Арто оценивал наши перспективы реалистичнее, поэтому для начала решил запустить при содействии новых партнеров серию черных детективов, а параллельно – библиотеку «Французский скандал», в которую были включены Селин, Полин Реаж, Жан Жене, Жорж Батай, Пьер Луис, Пьер Гийота, Эрик Журдан и их неблагонравные друзья.
Бумаги были подписаны, тосты произнесены, все разошлись.
У меня были трехмесячная виза в паспорте, тридцать тысяч франков в кармане и прекрасная Моника в постели.
– Раз уж у тебя появилось так много свободного времени, – сказала прекрасная Моника, – не хочешь ли ты мне помочь в одном деликатном деле?
Мы устроились за столиком кафе на улице дез Эколь, где когда-то вдрызг разругались сталинист Сартр и националист Камю, и Моника принялась рассказывать свою историю.
Перед отъездом из Москвы Моника и ее матушка мадам Каплан просеяли сокровища, накопившиеся за годы дружбы с фрондирующими и диссидентствующими писателями, художниками и музыкантами, и вывезли в багаже только самое ценное – письма и картины. В Германии продажа писем Шостаковича и Шнитке, картин Яковлева и Шеломова принесла неплохие деньги. Занималась этим главным образом Моника.
Попав в среду людей, занимающихся торговлей искусством, Моника вскоре сообразила, что лучше всего это делать во Франции.
Выйдя замуж за Жан-Пьера и перебравшись в Париж, она обнаружила, что русские эмигранты привезли в Европу много интересных произведений искусства, которые, однако, зачастую не имели провенанса.
Она познакомилась с мадам Евгенией, бойкой и злой русско-французской старухой с бородавчатой физиономией, которая задешево скупала картины малоизвестных русских художников и сочиняла провенансы – биографии авторов и их работ.
На грохочущей пишущей машинке старуха отстукивала головокружительную историю о сироте, сыне репрессированных, который стал живописцем, выставлялся в кочегарках, преследовался КГБ, провел несколько лет в психушке, куда его отправил всесильный секретарь ЦК КПСС, отец любовницы художника, потом в его биографии последовательно возникали побег из зоны, скитания по Руси, смерть под забором. Его называют «русским Рембрандтом», «русским Дали», «русским Климтом», «русским Хоппером» (нужное подчеркнуть). Знаменитый Бенедетто Ди назвал его «гением ярости», великий Хантер – «неукротимым повелителем красок», сам Цурукава – «воплощением морозного величия».
Иногда это срабатывало – мадам Евгении удавалось продать мазню за приличные деньги. У нее Моника научилась ценить искусство провенанса.
Благодаря старухе и кошельку Жан-Пьера она познакомилась с коллекционерами, продавцами, владельцами архивов и их наследниками.
Недавно ей повезло: она купила архив Алисы Судзиловской, которая в тридцатых годах была сотрудницей Наркоминдела, тайно провозила частные письма из Москвы в Париж и из Парижа в Москву, а потом осталась во Франции, отказавшись от советского гражданства. Ее подслеповатой полусумасшедшей дочери было плевать на материно наследство – она продала неразобранный архив Монике «за какие-то пятьдесят тысяч франков» (около десяти тысяч долларов по тогдашнему курсу).
(window.adrunTag = window.adrunTag || []).push({v: 1, el: 'adrun-4-390', c: 4, b: 390})В архиве чего только не было: книги, иконы, письма, дневники, картины, деловые бумаги по-русски и по-французски – всё скопом, навалом, без начала и конца.
Значительную часть архива занимали письма и картины некоего Василия Шаро.
– Картинами я займусь сама, – сказала Моника, – а ты мог бы порыться в чужом белье, я имею в виду письма и дневники. Ты бы так меня выручил…
– Об этом – договорились, – сказал я. – О вознаграждении договоримся позднее.
Эти три недели в Париже можно назвать идиллическими.
После ленивого завтрака мы принимались за работу.
Моника обзванивала знакомых и знакомых знакомых, чтобы хоть что-нибудь разузнать о художнике Василии Шаро и его месте в иерархии гениев.
В этом ей помогали письма Шаро к Марианне Веревкиной, Карлу Моллю, Андре Жиду и другим людям, которые я обнаружил в архиве Судзиловской.
Однако нам так и не удалось установить ни место и год рождения Василия Шаро, ни точное место его смерти: известно только, что в марте 1955 года урну с его прахом из крематория Пер-Лашез забрала некая Анна Монини-Дротфельд. На этот раз высокоразвитая французская бюрократия ничем не могла нам помочь: в документах департамента Иль-де-Франс это имя не встречалось ни разу.
Первым делом я занял самую большую комнату в квартире и разложил на всех поверхностях – на столах и столиках, на подоконниках и диванах – папки с письмами, толстые тетради, которые Моника назвала дневниками, деловые бумаги (их я сразу отделил от остальных документов). Потом отделил письма от рукописей, затем рассортировал письма по почерку и языку, наконец, выделил среди них переписку Василия Шаро с Сашенькой, которая, похоже, была его женой, хотя – если судить по их переписке – скорее любовницей.
Почерк Шаро и Сашеньки вызывал в памяти какие-то ассоциации, но они были такими смутными, что я запер их в дальний ящик сознания. Авторы не всегда датировали письма, но через несколько дней мне таки удалось расположить их на паркетном полу в хронологическом порядке и сфотографировать.
– Да ты гений сортировки и анализа, – сказала Моника. – Но, кажется, в его эпистолярном наследии чего-то стоят только письма к знаменитостям. Искусствоведы взвоют от восторга, когда увидят эти шесть писем Веревкиной того периода, когда она рассталась с Явленским: столько неизвестных деталей, такая боль… эта боль имеет общественное значение – а вот боль Шаро и Сашеньки, увы, только частное…
Я еще не понимал, почему именно эта частная переписка, не имеющая аукционной цены, так меня заинтересовала. Но при чтении этих писем у меня то и дело возникало ощущение, будто эти люди мне знакомы или известны, хотя их имена мне тогда ничего не говорили. Почерк, стиль, детали… словно из глубины темных вод всплывал город, по улицам и площадям которого я некогда бродил – может быть, в другой жизни, и при этой мысли у меня щемило сердце, словно чужая жизнь каким-то волшебным образом становилась частью моей…
Василий Шаро и Сашенька познакомились до революции, в 1916-м. Ей было пятнадцать, а Шаро – тридцать четыре, и у него за спиной были медицинский факультет и учеба в Венской художественной академии. И тогда же они стали любовниками – к ужасу обеих семей и друзей. Художник метался между Парижем и Веной, то и дело выбираясь в Москву, где его ждала Сашенька. Выставки, встречи, книги упоминались в письмах вскользь, но составляли важную часть его жизни, а ее жизнь была посвящена ожиданию. Наверное, поэтому он иногда называл ее Пенелопой, а она его – вором и жуликом Одиссеем.
В переписке они часто пользовались шутливыми псевдонимами. Отвечая, видимо, на ее слезные письма, он называл ее то синьорой Лакримозой, то госпожой Ламентацией, а то и госпожой Плаксой.