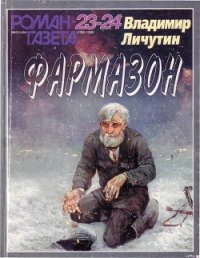Беглец из рая - Личутин Владимир Владимирович (полная версия книги txt) 📗
– Танечка, рубенсовские женщины хороши, спору нет... Это плоть напоенная и успокоенная, с пороками, вылезающими наружу, которые уже не надо скрывать, ибо всего откушано и испробовано вдоволь и нечего уже хотеть. А мне больше по нраву тот тип женщин, что недовольны судьбою, их можно осчастливить, они многого хотят и если не загрызают сразу, то, притираясь, не перебрасывают с титьки на титьку, как ты выразилась, но становятся преданнейшими друзьями.
– И чего же вы как костылик? – засмеялась Татьяна. – Все один да один.
– А еще не нашел такую, – признался я и с грустью посмотрел на милую женщину.
Была она в зеленом шерстяном сарафане и атласной белоснежной блузке с отложным воротником, откуда прорастала длинная хрупкая шейка, какая-то предательски беспомощная и слабая. Татьяна от моей приценки смутилась и отвела взгляд.
Муж привалился подле. Был он угловат, с худой кадыкастой шеей, адамово яблоко круто выпирало из кожи, будто там застрял рог молодого козленка. Темные волосы с ранней проседью на висках стояли на голове папахою, а в сталистых широких глазах жил холод рано остывающего человека. Я уставился на Илью с ревностью одинокого, обиженного судьбою соперника. Конечно, гнусно завидовать счастью другого, ибо этот порок скоро изъедает изнутри, как ржавчина металл. Но такова, наверное, сущность всякого мужика, ибо все женщины, принадлежащие другим, кажутся особенно редкими и милыми, силой иль наглостью отнятыми у тебя, незаслуженно присвоенными, украденными бесстыднейшим образом. Волокиты, они умудряются охмурить, обвести вокруг пальца, оставить с носом самое невинное и благородное существо, обещав златые горы, насулить тысячи грядущих блаженств и райскую жизнь, а выпив несчастную, скоренько выбрасывают вон, как половую тряпку иль ненужный хлам.
А я ведь не такой. О-о! Я, конечно, иной – тонкий и нежный, особенно ценящий редкую красоту; я бы носил тебя, милая, на руках, как драгоценный ларчик. И что ты нашла в этом тощем, небритом субъекте с пористой серой кожей, похожей на шкуру старой черепахи, в этих тонких язвительных губах, словно бы вырезанных перочинным ножом...
Я лгал себе, я принижал Илью, тайно сознавая, что этот парень красив, что он опятнает еще не одну девицу и многих погубит, злыдня, пока не успокоит кровь. Я крутил рюмку в руках, уже тяготясь застольем. Я не пил совсем, но зачем-то держал посудинку, будто боялся отказаться.
– Тебя в Афгане зацепило? – нарушил молчание Зулус.
– Да нет, по дурости...
– А палец где же?
– И палец – по дурости...
Получалось, что я смеюсь над Зулусом, а ведь бабка Анна предупреждала, чтобы я не задирал его.
– Почему же вас считают умным, если все у вас по дурости?..
– По дурости считают... Видите ли, Федор Иванович, многие маются от тоски иль скуки, жизнь им в тягость, но некому открыться, освободить душу. Видят меня, инвалида, которому ничего уже не надо, и начинают вдруг изливаться. Опустошатся, и им легче жить. А мне каждая судьба – в строку...
– Значит, ты пустой человек, – сделал неожиданный вывод Зулус, и седая щетка усов вздернулась.
– Ну, папа, что ты такое говоришь. Это же профессор Павел Петрович Хромушин, – взмолилась дочь.
– А я, значит, сарделька, да? Ты мне рот не затыкай... Еще рано отца учить.
– Да никто тебе рта не затыкает, Господи.
– Вот и не затыкай. А ты, Илья, жену не поваживай. Ты ее по шерсти не гладь, на шею сядет. И молчи, молчи, Танька, когда отец говорит... Пока ты мой кусок жрешь, а не я твой. Вот сяду в угол, тогда и укоряй.
Татьяна сникла, потухла, съежилась вся, как речная желтая бобошка на закате, закрыла лицо ладонями. Зулус долго не снимал с дочери изучающего взгляда, словно не узнавал ее, и щетиноватые брови угрозливо шевелились в лад внутренним страстям. Лицо у Зулуса было вырезано из смуглого камня, обочья густо затушеваны, словно бы в коже остались порошины от близкого взрыва, так впечаталась угольная пыль; взгляд вишневых глаз насупленный, несмиряемый. Можно было подумать, что Зулус уже решительно заложил за воротник и сейчас боролся меж темной бездной и явью, колеблясь на самой грани. Надо было заступиться за Татьяну, но слов верных не находилось. Чужая семья – потемки, и в какую сторону ни налаживай оглобли – везде болотина, трясина и тухлая прорва.
Зулус меня опередил, с тем же непримиримым взглядом сказал:
– Не знаю, чем вас и угощать. Всего вы не хочете. Штучка столичная, вам колбаски хорошей подавай, коньячок, осетринку. А мы, деревенские, по-простому: рукавом занюхал, лапу пососал – и сыт.
– Спасибо, ничего мне не надо. Пить я отродясь не пью, а кто не пьет, тот не закусывает, – пробовал я отшутиться. Я оказался под грозою, и надо было где-то затаиться, чтобы не сразило молоньей. И на равнине луговой жутковато, и под одинокую березу не спрячешь голову – спалит.
– Много вам надо, образованным. Вам все подавай, и чтобы сразу, – хрипло сказал Зулус и запил свое странное умозаключение глотком самопальной водки.
Я недоуменно взглянул на хозяина, но странным образом уже понял и согласился со всем, что будет сказано потом. Мы были деревенского кореня. Все вековое, пусть и припорошенное, пусть и трижды неправильное, замутненное и исковерканное, глубоко сидело в нас и заставляло с горестным недоумением отталкивать от себя тех людей, что позабыли родовое, отеческое. У них, наверное, была своя правда, но она была непонятна и чужда нам. Зулус говорил, словно забивал гвозди по самую шляпку плотницким топоришком. Бил он ладно, с размаху, словно мастерил мне ящик.
– Вы – парши, перхоть, вы наводите сраму на всякое доброе дело и превращаете в отходы, хоть бы – в навоз... А вы – в отходы. Вам бы сидеть на параше на зоне, чтобы больше не замышлять еб... революций. Ну и что получили? А что заслужили – то и получили. Шуруп в одно место, не при дочке будь сказано. Огоряй Ельцин, этот серый человечек, заимел шунты, несколько дворцов, сто мешков зеленых в швейцарском банке и ёрш в задницу. Алкаш несчастный... А вы оказались гнидами под еврейским ногтем. Думаете, отсидитесь? Они знают, что всякая гнида вошью станет и авось пригодится им. И не давят, и жить не дают...
– Согласитесь, ведь не все плохие, – пробовал я защититься безо всякой на то охоты. – Вот и дочь ваша...
Но Зулус не дал договорить:
– Дура она, дура... Мать шила и никаких институтов не кончала. Я был человеком даже под землей, с Доски почета не слезал. Я двадцать лет горбатился, добывал уголек стране. И меня ценили, давали жить. Я двадцать лет солнца не видел, но и ада не знал. Два километра над головою. Ты бывал в шахте, интеллигент?..
– Ну...
– Гну... Да твои руки тяже одного места и не держали. Нету ада, нигде нету. Мы сами себе, трусы поганые, устроили ад тут – на земле. Захотели живым меня закопать? А я не дамся, меня не так просто взять. Мне чужого не надо, но и своего не отдам. Кто мою косточку с тарелки схватит, я его – ам! – Зулус страшно щелкнул желтыми зубами, как московская сторожевая. – Я тому горло перегрызу. – Мужик раскалился, побагровел, дробины зрачков стали как ружейные дульца, из которых сейчас вылетят крохотные пульки...
«Но в меня-то за что стрелять, за что?» – мысленно воззвал я, но не был услышан мужиком.
– Раньше не было свободы: то нельзя, это нельзя. И правильно! Но была воля – а! Или я не прав? Вся страна подо мною, раскатись моя телега, все четыре колеса. И потому мы пели песни и смеялись. Была воля, да, была, только мы не знали того. Или не так?
– Все так, – подтвердил я, не кривя сердцем. Зулус удивительно точно, пусть и грубо, но считывал мои мысли, будто украдкою листал потайные записи.
– То-то, – самодовольно протянул Зулус, бледнея. – Воля для души, а свобода для брюха. А брюхо надо держать в узде. Или не так? А сейчас много свободы. Делай что хошь, что противно Богу, а в душе-то – неволя, ей некуда от брюха скрыться. Кругом одно ненасытное брюхо и внутри его маленький человечек, козявка, меньше даже и хуже. Та хоть не гадит. Правда, доча?