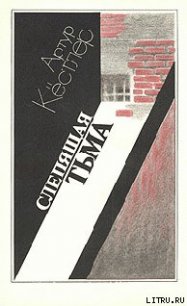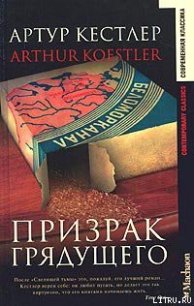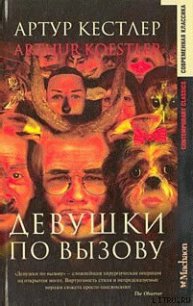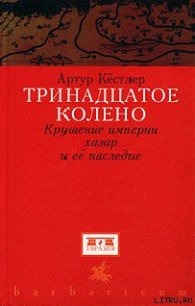Слепящая тьма - Кестлер Артур (читать книги полностью TXT) 📗
эх и здорово же мы повеселились
Порой сосед оскорблял Рубашова. Порой, не получая от него ответа, выстукивал песни Гражданской войны, в которых офицеры гнусно поносили бойцов и командиров Народной Армии. Порой отстукивал старый гимн — Рубашов, отдавшийся дневным видениям или погруженный в череду своих мыслей, вполуха слушал Четыреста второго.
Но Четыреста второй был очень полезен. Он сидел уже больше двух лет, прекрасно разбирался в здешних порядках, поддерживал связь со многими заключенными и сразу узнавал все тюремные новости.
Когда появился Четыреста шестой и офицер начал утреннюю беседу, Рубашов спросил его, не знает ли он, кого привезли нынешней ночью. Офицер ответил:
рип ван винкля
Он очень любил говорить загадками — чтобы расцветить очередной разговор. Рубашов припомнил повесть о человеке, который, проспав двадцать лет, обнаружил, что реальный мир неузнаваемо изменился.
он потерял память,
спросил Рубашов. Четыреста второй, довольный своей шуткой, рассказал Рубашову то, что знал. Четыреста шестой был учителем истории в одной из стран Юго-Восточной Европы. После Мировой войны его страну захлестнула Революция, Четыреста шестой принимал в ней участие. Разумеется, была основана Коммуна, романтически правившая несколько недель и потом буднично утопленная в крови. Руководители Революции были дилетантами, но их судили как Профессионалов: Четыреста шестого, с его пышным титулом Комиссара просвещения трудящихся масс, приговорили к смертной казни через повешение. Год он прождал исполнения приговора: потом суд заменил ему смерть пожизненным заключением в одиночной камере. С тех пор прошло два десятилетия.
Двадцать лет он просидел в одиночке, ничего не зная о внешнем мире. Да и внешний мир о нем позабыл. В этом юго-восточном государстве сохранились довольно патриархальные порядки: месяц назад там объявили амнистию, коснувшуюся всех политических заключенных; и вот современный Рип Ван Винкль, на двадцать лет оторванный от мира, был предоставлен самому себе.
В тот же день он сел в поезд и прибыл в страну своей давней мечты. Через две недели его арестовали. Возможно, двадцать лет одиночки сделали его чересчур болтливым. Возможно, он принялся рассказывать людям, какой ему виделась жизнь Там, когда он мечтал о ней в одиночке. Возможно, захотел узнать адреса своих партийных товарищей по движению — наемных агентов мировой буржуазии. Возможно, не туда возложил венок или решил нанести визит командиру знаменитой бригады Рубашову — своему нынешнему товарищу по тюрьме.
Теперь он мог бы задаться вопросом, что было лучше — два десятилетия во тьме одиночки или же две недели реальности в ярком свете осуществленной мечты. И, возможно, рассудок Рип Ван Винкля не выдержал такой непосильной нагрузки…
Вскоре зазвучала левая стенка: Рип Ван Винкль простукал раз шесть всавай проклятьем заклейменный и смолк. Рубашовскую камеру затопила тишина.
Рубашов лег и закрыл глаза. Неожиданно ожил Немой Собеседник — он не сказал ни одного слова, и тем не менее Рубашов понял.
За это тебе тоже придется расплачиваться: его мечту осуществлял ты.
Днем Рубашова повели стричься.
На этот раз его сопровождал только один вооруженный охранник: старик-надзиратель шел впереди, за ним Рубашов, за Рубашовым — охранник. Они миновали Четыреста шестую — на двери пока что не было таблички. В парикмахерской их ждал мастер из заключенных — один; другого куда-то услали; Рубашов понял, что существует приказ не допускать его встреч с другими заключенными.
Он сел; здесь было сравнительно чисто; висело зеркало; он снял пенсне и мельком глянул на свое лицо; оно обросло густой щетиной, никаких других перемен не было.
Парикмахер работал аккуратно и быстро. Дверь в коридор оставалась открытой; старик-надзиратель куда-то ушел, охранник, прислонившись к дверному косяку, наблюдал за работой; парикмахер молчал. Ощущение мыльной пены на щеках доставляло Рубашову огромное удовольствие; ему припомнилось, что в обыденной жизни есть множество мелких, но приятных радостей. Он очень охотно поболтал бы с парикмахером, но это, разумеется, было запрещено; Рубашов не хотел усложнять ему жизнь, тем более что его открытое лицо сразу внушило Рубашову симпатию. По облику он не походил на парикмахера: скорее — на механика или кузнеца. Начав брить, он спросил: «Не беспокоит?.. — и негромко добавил: — …гражданин Рубашов».
Это была его первая фраза; несмотря на совершенно равнодушный тон, в ней прозвучала скрытая многозначительность. Охранник у двери закурил папиросу; парикмахер продолжал работать молча: точными, профессионально-скупыми движениями он подровнял рубашовскую эспаньолку, а потом принялся подстригать ему волосы. Глаза Рубашова на мгновение встретились с напряженным взглядом парикмахера-арестанта — и тотчас же парикмахер, как бы для того, чтобы подкоротить ему волосы на шее, просунул два пальца под ворот рубахи; когда он их вытащил, Рубашов почувствовал колкий комочек бумаги под рубахой. Через несколько минут стрижка закончилась, и Рубашова отвели обратно в камеру. Он сел на койку и, посматривая в очко, чтобы его не застали врасплох, вынул бумажку, развернул ее и прочел. В ней торопливо-неразборчивым почерком было написано:
«Умрите молча».
Рубашов бросил записку в парашу и задумался. Со дня своего ареста он был отрезан от всего мира — и вот получил первое послание. Сидя в тюрьмах враждебных стран, он нередко получал записки с призывом «возвысить голос протеста и швырнуть обвинения в лицо обвинителям». Интересно, случалось ли такое в Истории, чтобы для пользы революционного дела революционера призывали молчать? Чтобы от него требовалось одно — и только одно — умереть молча?
Мысли Рубашова прервал сосед, поручик: он начал стучать в стенку, едва Рубашов возвратился из парикмахерской. Ему не терпелось поскорее узнать, куда и зачем «дергали» Рубашова.
водили стричься,
объяснил Рубашов.
боялся наихудшего,
простучал сосед.
только после вас,
ответил Рубашов.
Четыреста второй был благодарным собеседником.
ха-ха,
с энтузиазмом отстукал он,
а вы чертовски мужественный парень.
Странно, но этот старомодный комплимент показался Рубашову очень приятным. Он завидовал Четыреста второму с его плановым кодексом чести, который указывал, как ему жить и как умирать… Завидная доля! У Рубашова и его товарищей по движению не было свода нравственных правил: все свои поступки они совершали, сообразуясь с единственным мерилом — рассудком.
Даже обдумывая собственную смерть, Рубашов полагался только на разум. Что честнее — умереть молча или пойти на великие унижения во имя борьбы за великие идеалы? Он принес в жертву жизнь Арловой, чтобы сохранить себя для Революции. Его жизнь была объективно нужнее, этот довод выдвигали и друзья: долг сохранить себя в резерве Партии был, по их — и его — мнению, важней велений буржуазной морали. Для тех, кто меняет облик Истории, нет никакого иного долга, кроме готовности идти вперед. «Ты можешь сделать со мной что захочешь», — сказала Арлова, и, когда понадобилось, он сделал именно то, что хотел. Почему же он должен относиться к себе с большей бережностью, чем к покорной Арловой? «Грядущее десятилетие окончательно решит судьбу человечества», — писал Рубашов. Имеет ли он право дезертировать из жизни ради гордости, покоя или славы? А что, если Первый все-таки прав? Что, если здесь, в кровавой грязи, во лжи и насилии, закладывается фундамент великого счастья всего человечества? История, этот неразборчивый строитель, всегда скрепляла здание Будущего раствором грязи, крови и лжи — она никогда не была человечной. Умереть молча, уйти во тьму — красивые слова… Рубашов замер — на третьей черной плитке от окна: он вдруг заметил, что твердит вслух слова записки «умрите молча» — твердит неодобрительно-ироническим тоном, как бы подчеркивая их бессмысленность.