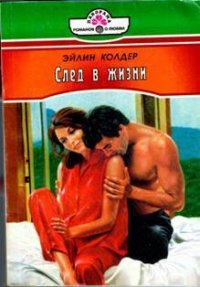Эйлин - Мошфег Отесса (библиотека электронных книг txt) 📗
* * *
Не то чтобы мне было абсолютно наплевать на этих мальчиков. Просто я была молодой и жалкой и ничем не могла им помочь. По сути, я чувствовала себя так, как если б была одной из них. Я была не хуже и не лучше. Я была всего на шесть лет старше, чем самый старший из мальчиков-заключенных. Некоторые из них уже походили на взрослых мужчин — высокие, стройные, с начавшими пробиваться бородками и усиками, с крупными крепкими руками и низкими голосами. По большей части они были из семей низкоквалифицированных рабочих, но в тюрьме содержались и несколько чернокожих мальчиков. Они нравились мне больше всех. Я чувствовала, что они понимают нечто такое, чего не понимают другие. Они казались более спокойными, дышали словно бы чуть глубже, носили идеальные «посмертные маски», в то время как другие мальчики морщились, хмурились, плевались и дразнили друг друга, точно маленькие дети или мелкие хулиганы в школьном дворе. Я часто гадала, что они думают обо мне, когда видят меня стоящей за дверью во время посещений, — если они, конечно, вообще замечали меня. Эти мальчики редко смотрели в мою сторону, и если они даже бросали на меня взгляд своих спокойных темных глаз, в этом взгляде не читалось узнавания. Мне казалось, что я была для них совершенно безликой, как будто всякий раз на моем месте оказывалась какая-нибудь другая из бесчисленной череды одинаковых молодых женщин. А может быть, разговаривая со своими матерями во время посещений, они называли меня «эта сучка» и указывали на меня движением подбородка, когда я отворачивалась прочь, думая о Рэнди и не слушая их беседу. А может быть, говорили: «Она единственная здесь, кого я не ненавижу». Или, возможно, считали меня сумасшедшей. Я определенно могла сойти за сумасшедшую в те дни, когда не высыпалась и приезжала на работу непричесанная и похмельная, закатывая глаза при каждом шуме и скрипя зубами при малейшем мерцании света. В своем детском эгоцентризме я фантазировала, что чернокожие мальчики разговаривают со своими матерями именно об этом: как плохо живется Эйлин, как Эйлин нужны друзья, как Эйлин заслуживает большего. Я надеялась, что они заглядывают сквозь «посмертную маску» прямо в мою скорбную и яростную душу, хотя сомневаюсь, что они вообще меня замечали.
Не буду первой, если скажу, что в том, чтобы работать в мужском учреждении, будучи молодой женщиной, есть свои преимущества. Это не значит, что мое положение в «Мурхеде» давало мне какое-то ощущение моей женской власти или подводило меня ближе к реализации воображаемых романтических отношений — нет, никакой подобной ерунды. Но работа в «Мурхеде» давала мне возможность одним глазом заглянуть в мужской мир. Иногда я могла тихонько стоять и наблюдать за мальчиками, словно за животными в зоопарке, — как они движутся, дышат, — отмечая все тонкости жестов и поз, которые придавали им индивидуальность. Именно благодаря изучению поведения юных узников у меня выработалось понимание странного спектра мужских эмоций. Пожатие плеч означало «я поколочу тебя потом». Улыбка была обещанием немеркнущей любви и привязанности — или жестокой ненависти и убийственной ярости. Испытывала ли я эротическое удовольствие, глядя на этих мальчишек? Честно говоря, лишь немного, потому что я не могла наблюдать за ними на регулярной основе и никогда — в их естественной среде обитания. Я видела лишь, как они входят в столовую и выходят из нее, да еще присматривала за ними во время визитов их матерей. Я была не на той должности, чтобы увидеть, как они отдыхают на своих койках, трудятся в мастерской или играют в рекреации, где, как мне думается, они были более раскованными и оживленными, проявляли больше юмора, открытости, непосредственности. В любом случае мне нравились их подвижные, опечаленные лица. Лучше всего было тогда, когда я видела, как сквозь пухлость щек и наивную мягкость молодости проступает жесткое лицо хладнокровного убийцы. Это заставляло меня дрожать от восторга.
Может быть, это случилось не на том конкретном рождественском представлении, но я помню, как мальчик, игравший роль Марии, выхватил подушку из-под своего халата, швырнул ее наземь и уселся на нее. А один из «волхвов» как-то раз изобразил стриптиз. Так что эти мальчики были в некотором роде очаровательны. Считала ли я, что буду скучать о них, когда сбегу прочь? Нет, не считала, да и действительно не скучала; хотя в тот вечер в часовне, глядя на их затылки, я гадала, смогу ли вспомнить лицо хоть одного из них, буду ли горевать, если кто-то из них умрет? Стала бы я им помогать, если б могла? Пожертвовала бы чем-нибудь ради их блага? Ответ был постыдным, но честным: нет. Я была эгоистична, меня волновали только свои собственные желания и нужды. Помню, как я смотрела на Рэнди, стоящего в темноте у стены, и гадала, не жмут ли ему штаны в интимных местах. Я прикидывала, что ему нужно укладывать тот самый орган на одну сторону, чтобы приспособиться к покрою форменных брюк. Они были тесными. Сейчас я не могу точно воспроизвести ту картину в памяти, но я регулярно изучала расположение складок в районе его паха, чтобы попытаться определить, какую сторону он предпочитает. Я не пребывала совсем уж в полном неведении относительно мужской анатомии. Не помню, на самом деле, чтобы я рассматривала мужские органы в похабных журнальчиках отца, — хотя, полагаю, там встречались соответствующие фотографии. Мое знание сводилось к анатомическим рисункам. В конце концов, я доучилась до второго курса в колледже, где одним из предметов была санитария и гигиена. Потея от жары под нагретым прожектором, я беспокоилась о том, что моя неопытность в отношениях с мужчинами заставит Ребекку счесть меня по-детски глупой и жалкой. Я боялась, что она отвергнет меня, если узнает, что у меня никогда не было парня.
Когда постановка завершилась, на сцене снова появился начальник и завел длинный монолог о природе греха. Я оставила свой пост возле прожектора, вышла из часовни и быстрым шагом направилась по тюремным коридорам, надеясь наткнуться на Ребекку. Рекреация и кабинеты были пусты. Библиотека, где хранились в основном религиозные трактаты и энциклопедии, столовая с длинными металлическими столами, уставленными грязными пластмассовыми тарелками, — нигде ни души. Спальни мальчиков располагались в самой дальней части. Крошечные окна выходили на округлые, засыпанные снегом дюны. Океан за дюнами был подобен каньону скорби, беспокойный и холодный днем и ночью, и грохот волн был так силен, что мне представилось, как сам Господь восстает из воды, смеясь над нашей тщетой. Было легко представить, какие депрессивные мысли это зрелище и этот шум навевали юным узникам. Окна располагались так низко от пола, что нужно было нагнуться или встать на колени, чтобы выглянуть в них. Несколько мгновений я стояла в пустой комнате, слушая гром прибоя. Вдоль стен стояли двухъярусные койки, само помещение имело форму колокола, а на полу были нарисованы линии, обозначавшие, где нужно стоять во время утренней поверки, где преклонять колени во время вечерней молитвы, в какую сторону идти в душ, а в какую — в столовую. Голубой линолеум так громко скрипнул под моими ногами, когда я уходила, что мне показалось, будто я наступила на мышь.
Помню, как я бегом вернулась на безлюдную кухню и похитила пачку молока с полки холодильника. Это была весьма впечатляющая кухня: сплошная серая сталь, мощная техника. Когда мальчиков наказывали за плохое поведение, их заставляли отбывать двойное дежурство по отмыванию котлов и сковородок, а спать они были вынуждены в комнатке позади кухни, которая некогда была складом для мясных продуктов, а теперь исполняла роль камеры-одиночки. Ее называли «карцером». Мальчику, которого отправляли в карцер, запрещено было выходить оттуда — только для того, чтобы принять душ или помыть очередную партию тарелок. Он должен был есть прямо в карцере, а вместо унитаза пользоваться ведром. Помню, это ведро очень меня интересовало. Как уже можно понять, меня влекли самые отвратительные отправления человеческого тела — и не в последнюю очередь туалетные дела. Сам факт того, что другие люди опорожняют свои кишечники, наполнял меня благоговением. Любые телесные функции, скрываемые за закрытыми дверями, восхищали меня. Я вспоминаю одни из первых моих отношений — не серьезную любовную историю, а легкий романчик, — с русским мужчиной, у которого было чудесное чувство юмора: он позволял мне выдавливать гной из прыщей на его спине и плечах. Для меня это было знаком величайшей близости. До этого, когда я еще была молодой и нервной, сама возможность допустить, чтобы мужчина услышал, как я опустошаю мочевой пузырь, была невероятным унижением и пыткой, а значит, как я считала, доказательством глубокой любви и доверия.